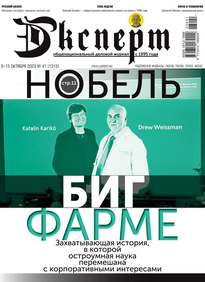Нашумевший манифест режиссера Константина Богомолова если и комментировали по существу, то, как правило, в довольно эмоциональном, если не сказать истерическом ключе. Например, прибегая к нехитрым конспирологическим конструкциям: дескать, не мог «наш» такое написать, поэтому написал кто-то «за него» (навскидку — Владислав Сурков). Или вооружившись по-русски наивными образами «Запада» (еще более наивными, чем у автора манифеста).
Скажем, философ Кирилл Мартынов в своем ответе режиссеру зачем-то вспоминает о толерантности (хотя в статье режиссера этот термин даже не упоминается), которую, по его словам, некорректно сравнивать с нацистской идеологией потому, что есть «жертвы нацистов». А вдвойне некорректно делать это в России, «пережившей ГУЛАГ».
И вообще, заключает философ, социальные сети — это правильная демократизация по западному образцу, которая хоть и выводит на свет всю грязь человека и предает ее нелицеприятному суду общественности, зато делает человечество (особенно в его западном изводе) еще более светлым и прекрасным. Потому что утопия прогресса, видимо, неустранима.
В том же духе вторит Мартынову и режиссер Иван Вырыпаев, который отметил, что «главной философской и жизненной идеей европейского общества является вера в эволюцию человека», приплетая к этому постулату эпоху Просвещения, которая, по мнению автора, и возвела «развитие» на этот пьедестал.
Правда, режиссер тактично умалчивает о том, что современные колониальные исследования эпоху Просвещения как раз отбрасывают как нечто архаичное и априори травматичное для тех народов, которые в этих колониях существовали. Не говоря уже о том, что сам проект Просвещения считается дискредитированным по итогам Второй мировой войны и в целом двадцатого века.
Однако помимо эмоционального шельмования Богомолова за несвоевременность его манифеста (когда оппозиция в опасности) или за неспособность понять подлинную западную стать (потому что госконтракты ослепляют), его текст впервые спровоцировал в России по-настоящему широкое обсуждение так называемой новой этики». Той, которую сам режиссер, не без манипуляции, рассчитанной на мгновенный эмоциональный отклик, описал как «новый этический рейх».
Конечно, Богомолову нельзя отказать в искренности, с которой он, будучи, человеком театра, набросился на это явление, ликвидирующее, по его мнению, «сложного человека» при помощи социально фундированной «кастрации» и «лоботомии». Потому что не может человек искусства работать с одной лишь патокой морализаторства — ему нужна сложность, противоречивость, с помощью которых он мог бы выстраивать драматургический нарратив, обеспечивая катарсис.
Однако можно ли так уж легко согласиться с тем, что «ограничение свободы эмоции отдельного человека — это революционная концепция Нового этического рейха», безжалостно насаждаемая современным Западом? Попробуем ответить на это без эмоций.
Предельная забота о Другом
«Помню, я вошел в комнату, в которой должен был работать. Там были мужчины и одна девушка. И я этой девушке между прочим сказал, что мне нравится ее платье. То есть сделал ей комплимент, но без всякого умысла. Она меня сама потом отозвала в сторону и сказала, что это, конечно, хорошо, что мне понравилось ее платье, но вообще у них так говорить нельзя — могут быть последствия».
Таким классическим сюжетом с точки зрения работы «новой этики» еще недавно поделился с нами известный историк и политолог Александр Лукин (см. «Вы белый, потому что у вас “белое” сознание», № 31–34 за 202 год). В целом проявления этой новой общественной и условно этической программы хорошо известны русскоязычной аудитории. Но вот содержательно это понятие довольно расплывчато и противоречиво.
К «новой этике», например, относят движение BLM (Black Lives Matter), с его пониманием расы не как биологического явления, а как социального предрассудка. Или движение #MeToo, нацеленное против культуры молчания. Относят ее и к особому языку, вычищенному ото всех возможных двусмысленностей или оскорблений в адрес Другого, под которым понимаются, к примеру, представители секс-меньшинств, других этносов или иных религий.
Еще «новая этика» — это про жестко регламентированные отношения между мужским и женским полами. А еще — «деплатформинг» (non-platforming) или «культура отмены» (cancel culture), когда, с одной стороны, человек, чьи взгляды или высказывания с точки зрения «новой этики» оцениваются как неэтичные, подвергается публичному остракизму. А с другой — под стать этим лозунгам начинают переписывать учебные курсы, выбрасывая из них все, что кажется архаичным, репрессивным и токсичным.
То есть суть «новой этики» — не прищемить, не принести (сознательно или бессознательно) травму Другому, потому что Другой априори уязвим и чувствителен к любой двусмысленности в свой адрес. Правда, строго говоря, к «этике» это явление все равно отнести трудно.
Во-первых, потому, что направлена она не на внутреннюю и свободную рефлексию, неустанно проблематизирующую свои поступки и мотивы, а на внешнее, социально обусловленное принуждение. И во-вторых, потому, что даже инструментально насаждается она так же «неэтично». Например, при помощи травли, троллинга, бана, короче говоря, репрессивно.
Не говоря уже о том, что само употребление этого термина часто оказывается орудием. Его используют те, кто выступает с априори возвышенных, «чистых» позиций этой «этики». Тот же, кто ей по тем или иным причинам противится, тут же приобретает статус «иноагента» и утилизируется из диалога. Это, к слову, и вызвало столь бурную реакцию Богомолова.
Поэтому лучше бы подыскать этому понятию приемлемую замену, описывающую не какую-то загадочную этику, специфическую якобы для особенно просвещенного двадцать первого века, а социальное явление, вместившее в себя некоторые новые нормы социального взаимодействия, у которых уже просматриваются характерные очертания.
С одной стороны, они окутаны тональностями заботы и предельной чувствительности к Другому, уязвимому перед оскорблением или притеснением. А если подключить сюда более широкий экологический контекст, то еще и к Природе. С другой стороны, эти нормы всегда предполагают широкий общественный консенсус. Они реализуются только энергией массы, требуют ее хора, порицающего и осуждающего.
И наконец, эти нормы находятся в прямой зависимости от того глобального процесса эмансипации — социальной и политической, — который начался еще во времена буржуазных революций. Пережив свой пик в 1968 году, они вышли сегодня на новый этап развития.
«Я расчесывал свою кожу до крови»
Однако перед тем, как описать этот этап, позволим себе небольшое сравнение. Приведем отрывок одного поста в фейсбуке, найденного по хештегу #янебоюсьсказать. В нем женщина подробно рассказывает своим подписчикам о насилии, которое она пережила, еще не достигнув возраста согласия.
Опустив саму историю, приведем лишь один характерный отрывок (сохранив оригинальную пунктуацию): «Я не “вспомнила” про свою травму, я просто впервые почувствовала те чувства, которые были заперты, которые нельзя было чувствовать (потому что если я сейчас — то есть в любой момент на протяжении последних лет пятнадцати — сяду горевать свое горе вместо того, чтобы работать, заниматься ребенком, снова работать, еще работать, я просто не выживу). Мне кажется, так и устроено это “вспоминание” в рамках флэшмоба: в какой-то момент ты просто дозреваешь до того, чтобы посмотреть на себя, как на человека, а чужие истории просто подталкивают тебя к этому».
Заметно, что автор этой исповеди описывает свой трагический опыт подростковой жизни и рефлексирует его, прибегая к артикуляции строго на чувственном уровне. Ей важно, чтобы читатель пережил этот опыт вместе с ней, для чего она не только решается на эту публичную исповедь, но и особым образом подчеркивает свою рану при помощи подобного эмоционально насыщенного языка.
Этот подчеркнуто чувственный язык оказывается характерным едва ли не для всех похожих «каминг-аутов» пользователей социальных сетей, поддерживающих любой подобный флешмоб. Приведем еще один отрывок, уже из другого признания: «После того как надо мной дико издевались одноклассники, унижали, буллили, моя самооценка была такой низкой, а дискомфорт от своего тела таким сильным, что я расчесывал свою кожу до крови и выдирал себе волосы на теле и на голове до залысин».
Такая открытость, беззастенчивость, даже мужественность, с которыми миллионы людей по всему миру выводят в публичное поле социальных сетей свои внутренние переживания, травмы или страхи, очевидно, формирует целую новую среду, сентиментальную по своей сути, где значимым априори оказывается не понимание, а переживание.
Более того, сама эта среда как бы навязывает человеку возможность публично обнажить свою ранимости, обеспечивая его всеми необходимыми инструментами: смайликами, «лайками» или «дислайками», разными тематическими хештегами, возможностью «зацепиться» на очередной пронзительной исповеди благодаря рекомендации алгоритмов.
К этому добавляется еще и целый понятийный аппарат — например, буллинг, моббинг, виктимблейминг или хейзинг, — которыми регулярно оперируют различные медиа, чтобы помочь своим читателям лучше разобраться в сущности пережитого ими травматичного опыта. Однако при чем тут сентиментализм?
Наслаждение!
Дело в том, что тот язык чувств, который мы только что описали, многим (если не всем) обязан своим происхождением именно сентиментализму в его классическом варианте XVIII — начала XIX веков. Возникнув в литературе как воспевание человека, живущего прежде всего чувством и глубоким состраданием к Другому, он во многом оказался опосредован и логикой борьбы буржуазии против феодализма.
Иными словами, именно такой чувственный язык, непосредственно описывающий насыщенную эмоциями жизнь своих литературных героев — что по тем временам было сродни скандалу, — оказался вместе с тем и оружием против строго регламентированной (в том числе на уровне эмоций) жизни аристократии. Здесь, условно, слово «угнетенный» обладает сразу двойной силой: с одной стороны, оно работает на мобилизацию масс, играя на их чувствах, а с другой — бьет по тому, кто угнетает.
В качестве примера работы самого сентиментального языка вспомним, как пишет Жан-Жак Руссо в своей «Исповеди», исповедуясь перед читателями с ошеломившей его современников откровенностью: «Страсти мои поддерживали во мне жизнь, и они же убивали меня. Какие страсти? — спросит кто-нибудь. Сущие пустяки, предметы самые ребяческие, какие только могут быть на свете, но они так захватывали меня, словно дело шло об обладании Еленой (имеется в виду Елена Прекрасная. — “Эксперт”) или о господстве над вселенной. Прежде всего женщины. <…> Потребность любви пожирала меня в самом разгаре наслаждения. У меня была нежная мать, милая подруга, но мне нужна была любовница. Я представлял ее себе на месте г-жи де Варанс, я видоизменял ее на тысячи ладов, чтобы обмануть самого себя. Если бы, держа в объятиях г-жу де Варанс, я думал о том, что держу именно ее, объятия мои были бы не менее страстны, но все мои вожделения погасли бы; я рыдал бы от нежности, но не испытывал бы наслаждения. Наслаждение!»
Язык здесь, конечно, отличается от того, что мы наблюдали выше, но он столь же насыщен этой чувственной непосредственностью, так же ошеломляет своей прямотой, отсутствием каких бы то ни было условностей или намеков.
Собственно, весь сентиментализм удивительно созвучен тому, что несет за собой сегодня «новая этика», и это заметно даже на уровне излюбленных тем. В нем с той же силой осуждается фигура «господина». Воспеваются маленькие, но добрые и значимые дела «униженных и оскорбленных». Поэтизируется природа, еще не искаженная алчностью человека. С той же религиозной патетикой обличается социальная несправедливость и провозглашается наступление нового братства. Наконец, реабилитируется само чувство во всей своей неуловимой данности и очаровании.
Правда, последствия этой реабилитации чувства, осуществленной европейскими литераторами еще на излете XVIII века, оказалась настолько эпохальными, что перекроили наш язык (даже на уровне высказывания в социальной сети), отношение к телу, потребительские практики, потребовали для себе даже какой-то новой этики, попутно и Богомолова превратив в незадачливого глашатая Кремля.
Чувствительность на марше
Вместе с революционными потрясениями, прокатившимся по Европе, а также с появлением газет, которые получили мощное распространение уже в XIX веке, с их сенсационным (читай: сентиментальным) нарративом, этот откровенный чувственный язык быстро и властно вошел в политический и общественный дискурс.
Шаг за шагом он отвоевывал права городского и сельского населения, попутно атакуя позиции традиционной, а затем и буржуазной морали, эмансипируя то, что до этого не допускалось или утаивалось за стенами рабочих лачуг или элитарных клубов, легализуя удовольствие во всех его проявлениях.
То было не только наступление эгалитаризма на все области человеческой жизни, но и освобождение того, что до этого было стеснено разнообразными табу — чувствующего тела и самой сексуальности. Начинается прямо-таки скандальный процесс глобального раскрепощения чувственности во всех ее проявлениях. Ее социальная реабилитация, снятие с нее разнообразных законодательных запретов.
К примеру, после работ Зигмунда Фрейда происходит постепенный переход от идеи репродуктивной сексуальности к гедонистической, когда секс из одного только утилитарного орудия деторождения превращается в орудие наслаждения. Отныне стыдливость, доселе присущая гетеросексуальному браку, постепенно уходит в прошлое, открывая дорогу не только запретным эротическим практикам, но и эксплуатации женского тела рекламой, кинематографом и фотографией. Начинался процесс эмансипации женщины.
Отказ от аристократического принципа «брака по расчету» в пользу «браку по любви» приводит к тому, что все более допустимым становится публичное оголение женского тела. Затем женщин начинают допускать на работу. После — наделяют ее правом получать удовольствие от секса и голосовать.
Наконец, вместе с распространением абортов и бурным развитием контрацепции число многодетных семей в западных странах начинает идти на убыль, а женщина в конце концов завоевывает то, что раньше безраздельно принадлежало только мужчине: право на рождение или нерождение ребенка.
Так, «тело [окончательно] помещается в контекст борьбы за права меньшинств, развернувшейся в 1970-х годах: главной сферы репрессий, важнейшего инструмента либерализации, обещания революции», — замечает в связи с этим французский антрополог Жан-Жак Куртин. Вслед за освобождением женского тела начинается борьба за свободную, чувственную однополую любовь, а также за свободу и справедливость для народов, бывших под колониальным игом.
Однако интенсификация чувственности и реабилитация удовольствия шли не только в одном социальном поле. Во-первых, огромную роль здесь сыграла феноменальная медикаментация жизни. Будь то через диетологию, хирургическую пластику, фетишизацию гигиены, огромное разнообразие тренировок тела или через синтез психоактивных веществ. А во-вторых, неслыханное развитие пережила и технологической среда, которая последовательно усиливала доставляемый человеку чувственный эффект на тактильном, акустическом и визуальном уровнях.
Наконец, такому же переосмыслению подверглось и наследие индустриальной эпохи с ее репрессивным по отношению к человеку трудом. В этой борьбе, быть может, самым знаменательным оказалось заявление Эриха Фромма, который сказал, что отныне общество должно создать внутри себя такие условия, чтобы те, кто по тем или иным причинам не хочет работать, мог свободно осуществить этот выбор и жить, ни в чем не нуждаясь.
Иными словами, вместо гуманизма эпохи Возрождения, новый — постиндустриальный — уже ничего от человека не требует. Он исходит из допущения его изначальной хрупкости и слабости, которую нужно оберегать, а не закалять и тиранизировать многообразными «надо».
«Никогда не извиняйся за то, как себя чувствуешь», гласит одна из условных заповедей этого нового гуманизма. Человеку, проникшемуся его идеалами, важно не «влюбляться», а «учиться выставлять личные границы». Не скрывать по понятиям обиду (потому что на «обиженных воду возят»), но проговаривать ее. Не травмировать себя слишком высокими целями, а жить в поисках личного счастья и гармонии.
Общество переживаний
«Какая радость была очнуться одному в постели и почувствовать обволакивающую, принадлежащую только тебе нежность своего тела! Каждое утреннее прикосновение к собственной коже, к собственному пухлоокруглившемуся плечику вызывало истерический, сексуальный крик, точно там, в собственном теле, затаились тысячи чудовищных красавиц. Но — о счастье! — то были не чуждые существования, а свой, свой неповторимо родной, неотчужденный комочек бесценного “я”; в восторженной ярости Извицкий не раз впивался зубами в собственное тело… Собственные глаза преследовали его по ночам. Иногда в них было столько любви, что его охватывал ужас».
В этих распаленных, сугубо телесных переживаниях Извицкого, героя романа Юрия Мамлеева «Шатуны», раскрывается тот сдвиг, который пережила чувствительность за минувшие столетия ее реабилитации. Через целую серию социальных, законодательных и ценностных изменений человек стал сегодня в первую очередь чувствующим, живущим эмоциями и переживанием своей собственной уязвимости. И теперь уже не «общество потребления», как его описал Жан Бодрийяр, а «общество переживаний», каким его видел немецкий социолог Герхард Шульце, становится новой средой обитания этого человека.
В этом обществе, по словам ученого, изменились не только его потребительские установки, но и логика социального поведения. Человек «общества переживаний» потребляет, чтобы получить эмоциональное удовольствие, как можно более продолжительное и интенсивное, а не чтобы показать свой социальный статус, как раньше. Причем потребление это по возможности должно быть ответственным, не деструктивным по отношению к Природе, и вместе с тем по возможности разнообразным и ухищренным, на что работает армия всевозможных критиков и целая бизнес-индустрия.
Однако на изнанке столь бурной и стремительной реабилитации чувственного во всех его проявлениях значилось сразу три глобальных последствия.
Во-первых, постоянный акцент на человеческой хрупкости и чувствительности привел к тому, что вчерашние «слабые», организовавшись, сумели оседлать этот идеологический тренд, навязав его в первую очередь просвещенному академическому сообществу. Здесь подключилась логика возвращения справедливого баланса за счет временного представления больших прав вчерашним угнетенным, ради завтрашнего всеобщего паритета и гармонии. Однако пока солидарность, если и получилось выстроить, то только селективную.
Во-вторых, вместе с тем, что человек оказался наделен полной сексуальной свободой, он был последовательно лишен и любых внешних ограничений в виде, например, общераспространенных норм, контроля со стороны авторитетных институтов (например, церкви) или хотя бы даже обыденного страха последствий (ведь контрацепция почти всегда страхует). И это в скором времени привело к тому, что вчера эмансипированные женщины, гомосексуалы или трансвеститы, сегодня оказалось в роли символической или реальной добычи для столь же эмансипированных друзей, коллег или случайных прохожих.
Иными словами, пространство социального взаимодействия, пережив мощнейший процесс эмансипационного воздействия, оказалось напрочь лишено механизмов защиты от нежелательного посягательства на личные границы. Ведь столь последовательно раздраженная телесная чувствительность не может не требовать выхода. Но всегда ли для него найдется согласие?
И как раз для того, чтобы хоть как-то успокоить это пространство и его нормализовать, стали вырабатываться новые ограничители. С одной стороны, они были направлены на то, чтобы умерить закономерное сопротивление вчерашних угнетателей диктату разнообразных меньшинств. А с другой — обуздать столь же закономерное стремление манипулировать объектом своих желаний.
Так и возникла, поначалу в мягком варианте этикета, та «новая этика», которая теперь, как мы знаем, исполнена морального пафоса, вооружена разнообразными санкциями и поддержана мощнейшей инфраструктурой социальных сетей, бесперебойно производящих публичную и часто ранимую интимность.
В то время как массовость и истеричность, с которой нормы «новой этики» вводятся в общественное пространство, — лишь логичное следствие двухвекового высвобождения чувственного, которое сегодня приобрело название уже «нового сентиментализма». И это, собственно, третье последствие и, быть может, самое существенное.
«Мы оказались в ситуации безнадежной утраты горизонта возможности рационального понимания окружающего мира, — пишет в связи с этим культуролог Виталий Куренной. — Современный субъект стремительным образом сентиментализируется, о чем свидетельствуют повсеместные проявления новой эмоциональности, захватывающей все области современной жизни — от “новой этики” до проблемы потребления и структуры социального действия в эпоху “общества впечатлений”. Новый эстетически и морально чувствительный субъект, общающийся с девственными универсумами новых онтологий, склонен не мыслить, а переживать их».
Отсюда же становится ясно, почему любая рациональная работа с «новой этикой» будет сразу осуждаться как «токсичная». Почему травля за несоответствие ее нормам будет массовой, а оспаривание ее применимости будет восприняться как посягательство на самое священное — человеческую хрупкость и уязвимость. И почему, в конце концов, возник тот странный эмоциональный фон, который сопровождал обсуждение статьи Богомолова, как и его собственные, столь же эмоциональные выпады против упрощающего «сложного человека» «нового этического рейха».