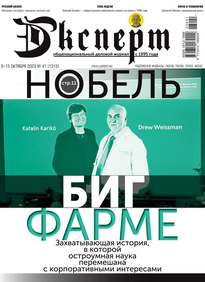ТОП 10 лучших статей российской прессы за Nov. 26, 2020
Стив Фуллер: «“Государство 2.0” будет киборгом, но человек все равно останется неотъемлемой частью политического процесса»
Автор: Тихон Сысоев. Эксперт
«Вы всегда можете покончить с государством, если посчитаете, что “чувство нормальности” для человеческой жизни больше не требуется», — считает Стив Фуллер, известный британский социолог. Он стал четвертым собеседником в рамках нашего исследования, посвященного ревизии института под названием «государство»*
Почему государство перестало восприниматься как источник политической власти, а молодежь все реже ходит на выборы? Стоит ли рассчитывать на то, что искусственный интеллект сможет заменить собой некомпетентных бюрократов и угрожает ли кибернизация подлинной политике?
Продолжая ревизию современного государства, мы обсудили эти и другие вопросы со Стивом Фуллером — профессором Уорикского университета в Великобритании, известным ученым-социологом, исследователем трансгуманизма и техники и основателем социальной эпистемологии. В частности, он считает, что вместе с кризисом современного государства в прошлое уходят традиционная оппозиция правых и левых, однако разработка новых компьютерных технологий позволит перезапустить не только демократические институты, но и само государство.
— В интервью журналу «Логос» вы между прочим заметили, что сегодня «люди больше не считают государство предметом спора, не думают, что политическая власть, распределенная в обществе, сводится к государству». Почему, на ваш взгляд, произошел этот откат от государства и политическая власть перестала к нему сводиться?
— Отвечая на ваш вопрос, было бы полезно вспомнить известное веберовское определение государства, взятое им у Томаса Гоббса: государство — это институт, который удерживает монополию на насилие, благодаря чему обеспечивается стабильный общественный порядок, позволяющий людям действовать свободно. Поэтому с самого начала появления государства мы видим два связанных друг с другом момента.
С одной стороны, силовое обеспечение соблюдения законов всегда играло центральную роль в устойчивости любого государства. Но с другой стороны, чем демократичнее становилось государство, тем чаще принятие новых законов требовало согласия со стороны людей, над которыми они призваны осуществлять контроль. Так было в начале.
Однако начиная со второй половины девятнадцатого века государство приобрело дополнительную функцию, смысл которой заключался в том, чтобы обеспечивать более сплоченный социальный порядок. Здесь в игру вступает множество различных понятий, уже знакомых нам по политическому дискурсу: в первую очередь на ум приходят «патриотизм» и «благосостояние». Пользуясь этими понятиями, государство начинает предъявлять все новые требования к конкретным людям во имя «народного блага» — будь то обязательная служба в армии или перераспределительное налогообложение для финансирования образования и здравоохранения.
Таким образом, государство стало как бы более ответственным перед людьми и функционально вышло за рамки обеспечения одной лишь безопасности. И именно в этот момент возникают правая и левая идеологии, которые начинают очерчивать новый политический дискурс.
— Иными словами, правая и левая идеологии возникли как ответ на то, что государство начинает претендовать на нечто большее, чем, условно, minimum minimorum?
— Да, ведь теперь государство своим образом действий начинает затрагивать образ действий самих людей, то есть напрямую влиять на их повседневный опыт. И именно поэтому между левыми и правым разворачивается масштабная дискуссия о том, как осуществлять контроль над государством, чтобы, грубо говоря, оно не забывалось.
Однако сегодня мы наблюдаем, как такое государство начинает исчезать. И основная причина, которая главным образом касается западных стран, заключается в том, что государство стало «завышать свои обещания» в отношении того, что оно может предоставить с точки зрения уровня благосостояния, занятости, социальной справедливости и так далее.
Самый яркий пример — «налоговые бунты», обычно исходящие от правых, с которыми государство всякий раз сталкивается, когда пытается оправдать повышение налогов тем, что население растет, становится разнообразнее и стареет. Впрочем, подъем «политики идентичности» и левых в той же степени демонстрирует общий скептицизм относительно способности государства выполнять рекламируемые им функции.
— Но при этом в этом же интервью вы отмечаете, что в прошлое уходит и традиционное противостояние левых и правых. Это тоже связано с кризисом государства, который вы только что описали, или этот процесс имеет свои причины?
— На самом деле, исчезновение жесткой оппозиции правых и левых началось еще раньше, потому что сами эти идеологические полюса никогда не были монолитными. Правые всегда включали в себя как традиционалистов, ратующих, например, за консервативные ценности, так и либертарианцев — условных технократов, выступающих против государства как такового, в то время как левые разделялись на коммунистов-бюрократов советского типа и своеобразных экологов-анархистов. И до поры до времени этот раскол как внутри правых, так и внутри левых, нивелировался тем, что они на демократических выборах боролись за контроль над государственной властью и консолидировались вокруг этой цели.
Однако по мере снижения интереса к выборам, особенно среди молодежи, легитимность самой процедуры установления такого контроля над государством все чаще ставится под сомнение. А значит, оказывается под вопросом и традиционная оппозиция правых и левых, в первую очередь для них самих. Можно, например, вспомнить недавний гнев молодых британцев по поводу брекзита, несмотря на то что сами они на этот референдум не пришли.
Конечно, тот факт, что молодежь стала намного реже ходить на выборы, не значит, что она в целом аполитична. Дело просто в том, что для нее смысл «политического» постепенно смещается в такие области, которые ставят под сомнение способность государства в принципе действовать эффективно. Это те области человеческой жизни, где государство просто бессильно что-либо сделать.
— Например?
— Давайте рассмотрим две противоположные тенденции. С одной стороны, есть «зеленые» активисты, такие как Extinction Rebellion (англ. — «Восстание против вымирания». — «Эксперт»), которые настаивают на такой политике по отношению к природе, которая требует глобального управления, выходящего за рамки благополучия Homo sapiens. Ни одно государство не способно удовлетворить этот запрос. Впрочем, едва ли это по силам даже всем государствам мира, объединись они для этой задачи.
С другой стороны, есть энтузиасты Кремниевой долины, которые убеждены, что «передовые технологии» могут успешно сделать все за государство, что излишнее и вредное бремя государственного регулирования можно легко снять. Это целый мир криптовалют и других цифровых стратегий, которые используются там, где государство явно не поспевает за развитием киберпространства, а значит, не может его контролировать. Хотя на самом деле энтузиасты-технооптимисты могут непреднамеренно своими же руками приготовить инфраструктуру для рождения «государства 2.0».
— Вы упомянули сейчас стратегию действия энтузиастов Кремниевой долины, когда они, опережая государство, действуют в тех областях, где никакого контроля пока нет. Может быть, стоит предположить, что само изменение существующего технологического ландшафта тоже по-своему «выталкивает» государство на обочину, делает его уязвимым и неэффективным?
— В каком-то смысле можно сказать и так. Ведь легитимность национальных государств изначально во многом основывалась на уважении географических границ. Смысл Вестфальского мира 1648 года, который, по сути, установил современные национальные государства, состоял в том, чтобы лишить «транснациональные» религии ("trans-national" religions) возможности чинить властям на местах погромы, ограничив эту угрозу четкими и непроницаемыми границами. И действительно, возникшее из этого решения стремление к секулярности в Европе привело к переосмыслению социального порядка, который отныне уже не зависел от «высшей», но уже «чуждой» власти Римской церкви.
Сегодня же, оглядываясь назад, можно понять, что принятое в Вестфалии решение с самого начала было обречено на провал, поскольку с каждым десятилетием мы только увеличивали и ускоряли наши возможности преодолевать пространственные расстояния. И в итоге за последние четыре столетия люди научились куда быстрее и эффективнее общаться и влиять друг на друга. Уже одно это способно дестабилизировать любую государственную претензию на соблюдение статуса-кво.
Безусловно, Китай все еще пытается удержать эту, условно, вестфальскую идею, используя изощренный контроль над интернетом, — и пока делает это весьма впечатляюще. Однако, повторюсь, чем проще людям общаться друг с другом, преодолевая государственные границы, тем легче будет дестабилизировать государство.
В качестве примера можно привести экологических активистов. Чисто статистически их не так уж и много, однако способность поддерживать успешное транснациональное сотрудничество придает их голосу глобальный вес. Неудивительно, что папа Франциск недавно связал заботу Церкви о социальной справедливости со справедливостьюэкологической!
Подвижное «чувство нормального»
— Тем не менее на протяжении последних столетий считалось, что государство — это высшая форма общественной организации и, если мы ее потеряем, можем скатиться к варварству, утратить тот уровень цивилизационного благополучия, которого достигли.
— На самом деле, если смотреть на эту проблему исторически, государство в первую очередь необходимо для того, чтобы ввести в общество то, что можно назвать «чувством нормального». В латинской традиции это называется status quo — понятие, которое можно найти уже у Фомы Аквинского. Статус-кво — это то, что мы сейчас называем справедливостью или равными условиями игры. Однако то, что мы считаем справедливым, на самом деле не является чем-то статичным, но меняется от одной эпохи к другой. Думаю, что идея политической революции позволит вам лучше понять суть этого суждения.
Скажем, в Средние века революции оправдывались как восстановление статуса-кво, который понимался как естественный порядок, в котором феодалы и крестьяне уважают друг друга — каждый исходя из своего сословного положения. Вот почему большинство средневековых революций были связаны с жестоким обращением феодалов со своими крепостными: именно они были нарушителями средневекового статуса-кво.
А с наступлением эпохи модерна и либеральные, и социалистические революции стали оправдывать с точки зрения восстановления другого статуса-кво, под которым теперь понималась такая ситуация, где каждому позволено вносить свой оптимальный общественный вклад, независимо от классового происхождения.
Таким образом, разница между Средними веками и модерном главным образом лежит в изменении базовых представлений о человеческой природе, которые, в свою очередь, определяют некий стандарт «нормального» человеческого поведения, которое и должно обеспечиваться государственными институтами. В Средние века люди почти всегда рождались и умирали для исполнения жестко нормированных социальных ролей, тогда как в эпоху модерна они стали рождаться в обществе, где уже не было такой социальной предзаданности, если угодно.
И, кстати, это, в свою очередь, привело к тому, что в эпоху модерна стало оправдываться более активное участие государства в жизни людей, о чем я говорил выше. Потому что этого требовало новое содержание статуса-кво, которого невозможно было достигнуть без всеобщего образования и здравоохранения. Но, как бы то ни было, в принципе, вы всегда можете покончить с государством, если посчитаете, что для человеческого существования «чувство нормальности» больше не требуется.
— Кстати, любопытно, что неолиберализм, по сути, апеллирует к тому, что та нормальность, о которой вы говорите, производится как бы стихийно, естественно. Есть, например, естественные законы рынка, которые сами все расставят на свои места. И эта «естественная нормальность» может возникать только самостоятельно, считается, что участие государства все только портит. Можно ли, используя этот пафос, утверждать, что сам неолиберализм — это реакция на бессилие государства, о котором вы сказали выше?
— Вы описываете логику неолиберализма не совсем корректно. Хотя я понимаю, почему у вас возникли именно такие ассоциации. В неолиберализме нет единства по вопросу, который вы поднимаете, но при этом государство в любом из его ответвлений никуда не исчезает.
Как правило, мы связываем идею свободного рынка как главного двигателя социального прогресса с фигурой Адама Смита. Он действительно считал, что если государство, понимаемое как монархия, уничтожит монопольные привилегии у определенных игроков, то любой член общества сможет открыто конкурировать за предоставление тех же продуктов и услуг, которые до этого находились под контролем небольшой группы людей. И этот тот самый «спонтанный», или «естественный», образ рынка, который привели вы и который тот же Фридрих Хайек как раз и перенял у Смита.
В то же время совершенно другой взгляд на роль рынка в ту же эпоху вызревал уже по другую строну Ла-Манша — во Франции. Маркиз де Кондорсе, известный своей теорией человеческого прогресса, утверждал, что государство должно стремиться к созданию рынков там, где их еще нет, а также к разрушению монополий, которые препятствуют их появлению.
И именно этой идеей Кондорсе руководствовались люди, стоявшие за коллоквиумом Уолтера Липпмана в Париже в 1938 году, на котором произошел отказ от старого либерализма и было дано имя новой концепции — «неолиберализм». Экономист Александр Рюстов тогда определил неолиберализм как «либеральный интервенционизм».
Другими словами, при неолиберализме основная задача государства — дать людям возможность свободно развивать свои способности. Но при этом подчеркивается, что эта задача под силу только государству. Эта идея была близка как прогрессистам в СШАв начале двадцатого века, так и британскому фабианству. Причем до взлета Советского Союза, оба эти движения называли себя социалистическими. Однако уже после российской революции они постепенно дрейфовали к этому смыслу неолиберализма.
Однако ключевое здесь то, что неолибералы никогда не отказывались от идеи могущественного государства. Во всяком случае, они стали смелее в понимании того, что может сделать одно государство, чтобы другое государство стало свободным. И именно поэтому с геополитической точки зрения разговоры Хайека о «спонтанности» рынка в рамках неолиберализма только сбивают с толку.
Государство 2.0
— Возможно ли предположить в таком случае, что вместо государства с течением временем возникнет некий новый поставщик «нормальности»? Например, если говорить о технологическом развитии, можно вспомнить тот же искусственный интеллект и в целом все то, что укладывается в логику трансгуманизма. Или, возможно, «государство 2.0» просто интегрирует в себя все эти технологии и превратится в глобальную и безошибочную машину?
— Интересный вопрос. Действительно, по крайней мере один трансгуманист выдвинул радикальную идею, что искусственный интеллект однажды сможет преуспеть в политике и будет избран на государственный пост. Золтан Иштван, американский трансгуманист и предприниматель, создавший Трансгуманистическую партию, чтобы баллотироваться на пост президента США в 2016 году, предположил, что наличие ИИ в избирательном бюллетене будет равносильно тесту Тьюринга для определения того, можно ли считать людей лучшими управленцами людей или же машина способна справляться с этим лучше. И Иштван, кстати, здесь не одинок. Просто его позиция больше всего бросается в глаза.
Однако в ответ на это технологический критик Евгений Морозов несколько лет назад опубликовал книгу под названием «To Save Everything, Click Here» (англ. «Чтобы сохранить все, кликните здесь»), в которой высмеял многочисленные попытки энтузиастов Кремниевой долины «автоматизировать» государство, чтобыпреодолеть, как им кажется, неэффективность и коррумпированность сделанных «из крови и плоти» чиновников. Главная изюминка книги заключается в том, что, как полагает автор, ошибки, которые делает человек, будут просто перенесены на алгоритмы, выполняющие компьютерные команды. Так что, заключает Морозов, «государство 2.0» может оказаться даже хуже, чем «государство 1.0».
— Вы разделяете эту позицию?
— Не совсем. На мой взгляд, все немного сложнее. И для объяснения своей позиции я сделаю шаг назад, чтобы показать, что эти условные трансгуманистические идеи «государства 2.0» говорят о природе государства как такового. Написанная еще в годы юности работа Вильгельма фон Гумбольдта «О пределах государственной деятельности» может стать хорошим для этого подспорьем.
Мы все помним Гумбольдта как изобретателя современного университета, где царит дух Просвещения, однако до того, как стать прусским министром образования, он был одним из главных либеральных мыслителей, который считал, что необходимо проводить четкую границу между «законодателями» и «администраторами».
Иными словами, если говорить на сегодняшнем политическом языке, народ должен определять общую политику, а государственные служащие —решать, как эту политику претворить в жизнь. В этом контексте, согласно Гумбольдту, образование как раз и позволяет людям лучше понять, чего именно они хотят. Поэтому, к слову, в проекте гумбольдтовского университета центральное место отводилось философии.
Таким образом, по Гумбольдту, к государственным служащим выдвигается сразу два требования: уметь понимать волю людей и уметь это волеизъявление осуществлять. При этом он, как и другие мыслители эпохи Просвещения, считал, что все неудачи, которое терпит государство, в конечном счете всегда связаны с некомпетентностью бюрократов, не способных ни должным образом понять волю людей, ни осуществить ее.
И именно поэтому я легко могу представить себе искусственный интеллект, который начинает играть здесь важную роль в том смысле, что он сможет находить оптимальные пути для реализации воли людей. Поэтому он будет гораздо более «кибернетическим» в том смысле, что потребует более тщательной интеграции человеческих и машинных процессов. Другими словами, «государство 2.0» будет киборгом, но человек все равно будет неотъемлемой частью политического процесса. Ситуация, где человечество полностью управляется машинами, на мой взгляд, невозможна.
— Я хотел бы вернуться к вашей мысли, что государство исторически возникло для распространения «чувства нормальности» и что само содержание того, что считается «нормальным», менялось в разные эпохи. Возможно, сегодня мы тоже имеем дело с запросом на некоторую новую нормальность и поэтому должны реформировать государство так, чтобы оно стало этому запросу отвечать? Например, мы знаем, что представительная демократия сегодня в глубоком кризисе, что многие голоса больше не представлены в парламенте, а выборы, как полагают многие, превратились инструмент в руках элит.
— Здесь я готов согласиться с вами и думаю, что в будущем нас ждет более «коллективная» форма демократии. И конечно, интернет обеспечит для этого необходимую инфраструктуру. Однако важно поместить этот аспект в более широкий контекст истории демократии как таковой, для чего я хотел бы вернуться к обсуждению книги Гумбольдта «О пределах государственной деятельности». Ведь эту работу можно рассматривать и как критику представительной и особенно парламентской демократии.
В каком-то смысле, считает Гумбольдт, представительное правительство — это остаток патернализма в современной политике, поскольку в логике представительства предполагается, что получившие мандат от народа депутаты способны выражать общественные интересы намного лучше, чем само это общество.
Напротив, Гумбольдт полагал, что по мере того, как люди становятся все более образованными, они могут «принимать законы самостоятельно» (self-legislate) — это понятие он, кстати, взял у своего наставника Канта, — не делегируя это избранным депутаты, которые якобы «лучше знают». И в таком случае необходимость в классе «профессиональных политиков», которые «представляют» народ, отпадает.
При этом возникнет огромная потребность в преданных делу государственных служащих, желающих и способных претворять в реальность коллективную волю людей. Гумбольдт здесь имел в виду совершенно четкое разделение целей и средств в политике: люди коллективно определяют цели, а государственные служащие, используя оптимальные средства, к этим целям движутся. Таким образом, в лучшем государстве будущего должны будут исчезнуть именно те политики, которые стратегически искажают общественные интересы в своих личных интересах.
Излишне говорить, что реализация видения Гумбольдта потребует очень тщательной проработки как системы голосования, так и средств, с помощью которых будет возможно четко фиксировать ответственность за последствия принятых решений. Однако я, в отличие от Евгения Морозова, считаю, что здесь должна существовать возможность разработки соответствующих компьютерных программ для совершенствования работы с этими вопросами на соответствующем уровне сложности.
Молчи, скрывайся и таи
— В интервью нашему журналу один политический философ и историк отметил, что сегодня государство стало источником тревоги. В каком-то смысле эту идею можно понять как изнанку вашей мысли о том, что государство сегодня больше не может отвечать на запросы людей. Но, наверное, стоит поставить этот вопрос и в контексте практик контроля, которые так усилились сегодня вместе с развитием цифровых технологий. И в этом смысле государство, кажется, стало еще более могущественным, поэтому его столь неконтролируемая сила вызывает у людей беспокойство. На ваш взгляд, означает ли это, что государство на самом деле становится только сильнее?
— Признаюсь, что неоднозначно смотрю на проблему цифрового контроля. Очевидно, я понимаю, откуда берутся эти опасения. Кажется, что сегодня чуть ли не все люди боятся, что весь мир станет глобальной версией китайской «системы социального кредита». Тем не менее стоит отметить, что вопрос конфиденциальности и, если говорить шире, контроля над своей самопрезентацией — это не то же самое, что было, например, в семнадцатом веке.
Тогда основная проблема заключалась в том, что религиозные и политические власти заставляли людей ясно заявлять о своих убеждениях и о своей лояльности. И поэтому в то время под конфиденциальностью понимали в первую очередь право хранить молчание. Однако появление интернета и особенно социальных сетей перевернуло эту проблему с ног на голову.
Теперь люди просто не могут остановиться в своем самовыражении! Мы легко раскрываем все самые интимные подробности нашей жизни и мыслей всего лишь одним щелчком мыши. Таким образом, «конфиденциальность» сегодня означает нечто другое, а именно обеспечение людям такой защиты, чтобы они не рассказывали о себе слишком много, ведь затем эта информация может быть использовано против них.
Короче говоря, государство сегодня уже не должно действовать по отношению к людям так же, как оно действовало в семнадцатом веке, когда людей принуждали открывать свои потаенные мысли: сегодня мы самостоятельно и с охотой делаем все для того, чтобы стать уязвимыми перед властями.
Иными словами, теперь все, что нужно государству, — чтобы основные платформы социальных сетей регулярно обменивались с ним своими данными, как это уже происходит, например, в Китае. Поэтому и все страхи должны быть адресованы человеку, а не государству: он же сам сначала нарушает свою конфиденциальность, а затем отчего-то начинает сетовать на цифровой контроль.
— Тем не менее цифровизация, которая охватила сегодня едва ли не все страны, в каком-то смысле не оставляет альтернативы: человек уже не может выбрать, хочет он оставлять цифровой след или нет. Он оставит его в любом случае, потому что многие функции без интернета уже недоступны в принципе. И, мне кажется, люди в большей степени боятся именно этого — отсутствия альтернативы, что делает цифровое государства абсолютно могущественным. Но само это могущество приобретается без принуждения, как вы заметили выше, и в этом заключается новая хитрость государства. Разве это не так?
— На мой взгляд, здесь есть две проблемы, которые легко перепутать друг с другом, особенно когда в связи с этим вспоминают о Китае. Конечно, цифровой контроль — это угроза, о которой стоит беспокоиться, но пока совсем неочевидно, что она будет исходить от государства. По крайней мере, это точно не будет происходить напрямую.
Дело в том, что в Китае у государства действительно есть прямой доступ к цифровым данным, которые генерируют люди, потому что компании, которые собирают и анализируют эти данные, сотрудничают с государством. Перспективы же возникновения цифрового государства на Западе осложняются тем, что платформы «больших данных», такие как Google, Amazon и Facebook, независимы от государственного контроля. Более того, западным государствам трудно даже налоги собирать с этих компаний!
В то же время очевидно, что государства все равно требуют сотрудничества крупных технологических компаний, например для выполнения таких государственных функций, как обеспечение национальной безопасности. Тем не менее цифровое государство возникнет на Западе только в том случае, если эти компании каким-то образом будут включены в структуру управления государства — возможно, через частичное владение, как в Китае.
Более того, учитывая уровень защиты гражданских прав в западных странах, государству с юридической точки зрения трудно подобраться к данным, полученных частным образом, то есть в коммерческих целях. Однако что недоступно западному государству, доступно западному рынку, который волен формировать ваши взгляды и желания как угодно.
Поэтому, если смотреть на эти вопросы с западной точки зрения, то в краткосрочной перспективе людям стоит беспокоиться не о государственном контроле, а о контроле со стороны рынка. И здесь, на мой взгляд, путь наименьшего сопротивления для любого потенциального западного «цифрового государства» — принятие высокотехнологичной версии стратегии «подталкивания» либертарианского патернализма.
Эта концепция была разработана американским юристом Кэссом Санстейном и экономистом Ричардом Талером, которые пришли к выводу, что государство должно тщательно изучать все модели сбора данных. А затем разрабатывать такую политику, которая направляет эти тенденции туда, куда считает нужным и желательным, но осуществлять все это без угрозы принуждения.
— Если посмотреть на двадцатый век, можно заметить, что, несмотря на две беспрецедентные войны, по некоторым важнейшим вопросам был достигнуть консенсус. Например, что человек не должен эксплуатировать другого человека, что расизм — это плохо или что у каждой нации есть право на самоопределение. И, по крайней мере на словах, этот консенсус между государствами поддерживался и позволял как-то стабилизировать конструкцию международных отношений. А что сейчас является предметом поиска консенсуса между государствами? И за счет чего, на ваш взгляд, такой консенсус возможен?
— Если бы мне пришлось выделить хотя бы один вопрос, по которому до сих пор нет консенсуса, это было бы универсальное право на «самотрансформацию» (universal right to self-transformation) — надеюсь, это не звучит слишком метафизически. В какой-то мере мы уже достигли этого идеала как внутри государства, так и в отношениях между ними. В частности, за счет того, что позволяем людям менять свой социальный класс, полученный при рождении, посредством образования или трансформировать свою национальную идентичность посредством иммиграции. Хотя пока, конечно, успех здесь нам не гарантирован, но это хотя бы формально разрешено.
Однако теперь, на мой взгляд, нам предстоит установить подобный уровень терпимости к трансгендерному, трансрасовому, трансвидовому и киборговому существованию. Это наш следующий рубеж, если мы действительно уважаем свободу людей и их желание полностью раскрывать свой потенциал. Ведь разве не это было конечной целью того международного консенсуса, о котором вы сказали выше? Нельзя сводить этот консенсус к одному только поддержанию мира.
И если ваши читатели сочтут то, о чем я говорю, причудливым, им следует вспомнить о тех битвах, которые велись вокруг первоначального права на самопреобразование (self-transformation). Все эти баталии возникали вокруг религии и во многом требовали ограничения ее возможностей. И именно в этом контексте сформировались современные представления о международном порядке: от уже упомянутого Вестфальского мира 1648 года до Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 года.
Многовековая проблема религии для государства заключалась в том, что ее доктрины всегда побуждали людей думать о себе в терминах, противоречащих целям государства. И такие обвинения исторически звучали и по отношению к буддизму, и к исламу, и к сектантским формам христианства.
Консенсус, достигнутый в этом вопросе в период модерна, часто обсуждается в терминах «свободы совести» и «свободы слова». Хотя на самом деле речь всегда шла о праве думать о себе независимо от тех ожиданий, которые выдвигает государство или общество, что, в свою очередь, может привести к изменению того, как действуют государство и общество. Это тот идеал, к которому, на мой взгляд, стоит стремиться.
*См. «Старые системы ушли, начинают организовываться новые системы, они захватят весь земной шар», № 43; «Политическое государство не может само быть Абсолютом», № 45; «Очевидно, что нарушение суверенитета государства приводит к нарушению прав личности», № 47.
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.