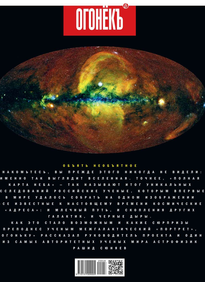В этом году группе "Ленинград" исполняется 20 лет. "Огонек" поговорил с лидером группы Сергеем Шнуровым накануне юбилейного выступления "Ленинграда" в Москве 13 июля
— Остальное пролистывают...
— Конечно, сравнивать себя с Ерофеевым было бы верхом наглости; но если даже говорить о наследовании, о традиции — это, конечно, немного разные жанры. И эпохи. Эпохи-то — бог с ним, а вот жанры — важно. Венедикт Ерофеев, конечно же, трагик, мы — комедианты. Это другая совершенно маска, другой театр. И вообще, "Москва — Петушки" — одна из самых трагичных вещей, которые я читал. Я не понимаю людей, которые находят возможность смеяться там над чем-то... На мой вкус, там не смеяться, а плакать надо.
— Но ведь Ерофеев тоже превратил мат и алкоголь в концепт, если можно так сказать...
— Мат и алкоголь — как и жаргонизмы, разговорный язык, внесенный в высокую литературу,— это все литературные приемы ХХ века, это стало происходить задолго до Ерофеева. Ерофеев просто нашел в себе смелость превратить это в манифест. По степени бесстрашия, самоуничтожения высшей планкой для меня в этом плане является скорее американский писатель Чарльз Буковски. Он более "мой" литературный герой, он больше совпадает с героем Сергея Шнурова.
— Группе — 20 лет. На прошлой неделе в ЭКСМО вышла книга Максима Семеляка ""Ленинград": невероятная и правдивая история". Там есть пассаж о том, что "Ленинград" — это осколок культуры 1990-х годов... Не в этом ли секрет выживаемости — что вы говорите от лица "другой эпохи"?
— Мы — осколок эпохи в том смысле, что в нас присутствует дух авантюризма того времени. Это ни в коем случае не про разгул бандитизма или чего-то такого. Тогда жизнь вообще воспринималась как авантюра, как приключение — где за поворотом неизвестно что тебя ждет. И, если начинается драка, там уже никакие правила неуместны. В уличной драке ведь ты дерешься вот, б..., как можешь. Твоя задача — выжить в сложившихся обстоятельствах. В этом смысле мы закалены 90-ми, бесспорно.
— Закалка — да; но все-таки нынешнее время — оно "ваше" или не совсем "ваше"? Как вы его воспринимаете?
— Абсолютно наше. Это время победившего постмодернизма. Постмодернизм даже из дискуссий исчез — это говорит о том, я думаю, что он впитался в почву, вошел в кровь. И сегодня все течет здесь и все управляется здесь именно по его законам. В каждом событии есть игра, гипертекст, конструирование действительности и много абсурда. В ситуации абсурда любому художнику, конечно, интересно... Это ведь конфликтная среда — смыслы налезают на смыслы, не противореча друг другу; всякая дискуссия оборачивается пародией на себя, оттого они так смешны. Да, конечно, это круто, в этом смысле — сейчас наше время.
— Вот было три богатыря конца 1990-х: Лагутенко, Земфира и группа "Ленинград". Из всего этого великолепия "новой России" сегодня остался только "Ленинград". Как можно объяснить этот секрет выживаемости?
— Не думаю, что я его знаю, могу только предполагать... И "Мумий Тролль", и Земфира — жанровые исполнители, это называется брит-поп. Как и любой жанр, панк или хард-рок, он имеет определенный период жизни: вначале это ультрамодно, а потом становится ультранемодным. И вот сейчас исполнители в жанре брит-поп находятся в фазе немодности, а следующая фаза будет — ультранемодности. Но потом — я их могу обнадежить — будет волна ретро. Это обязательно так бывает, вот, например, и группа Uriah Heep по-прежнему существует. Все у них хорошо. Вот был этот образ — "романтик у микрофона", когда в песне всегда есть нарратив, высказывание, где — обязательно возьми в кавычки это слово — есть "искренность"; то есть строгие правила существования молодежного героя. Но на смену этим героям — а они все-таки герои — пришли другие, появились новые жанры — как рэп, например. Они питают уже новую молодежь новым искусством, так что просто сменилась мода. А "Ленинград" был всегда вне жанров — мы никогда не были привязаны ни к панку, ни к року, ни к тому же пресловутому брит-попу. Мы не играли техно... Мы как находились в состоянии бродячего цирка, так и остаемся. Мы все существующие жанры скорее используем — как используют какие-то технологические открытия для облегчения жизни, но жизнь-то в принципе остается та же. Мы можем брать на вооружение разные жанры как метод, как прием — вот сегодня сыграли блатняк, а завтра можем сыграть рейв, и это нормально.
— Это же метафора существования России. Она тоже увлекается всем, заимствует форму, переваривает, но побеждает именно цирк, смесь всего со всем. Но оттого, что вы жонглируете жанрами, "мир вас ловит, но не может поймать", перефразируя философа Сковороду.
— Мы стараемся, чтобы было так.
— Эта концепция родилась сразу или это пришло со временем — что нельзя загонять себя в рамки жанра?
— Я думаю, что со временем... Вообще поначалу мы собрались играть такой постблатняк, наследуя Аркадия Северного. Но потом, когда я стал в него вслушиваться и пытаться его деконструировать, я понял, что блатное там тоже игра, всего лишь форма; и эта бирка "блатняк" зря прикручена к Аркаше. Он в песнях цитирует популярные песни того времени — это совершенно постмодернисткий подход, игра с контекстами. И когда я его деконструировал — я понял, по какому пути мы идем...
Я думаю, что это приобрело такой манифестарный вид, в открытую было заявлено, что нет ничего прагматичнее, чем честность, в альбоме "Для миллионов" (восьмой студийный альбом группы "Ленинград", 2003 год.— "О"). Мы говорим: да, это для всех, для миллионов, и это надолго. Там каждая песня исполнена в разных жанрах, а открывает все это небезызвестный трек "Меня зовут Шнур" в стиле рэп, что было вообще-то диковато услышать от "Ленинграда" в 2003 году...
— Много лет спустя в чьих-нибудь мемуарах, вероятно, мы прочтем, что российская идеология 2000-2010-х сложилась из двух источников: фильма "Брат", которому в этом году исполняется 20 лет, и группы "Ленинград". "Брат" — это агрессивный патриотизм, а "Ленинград" — пофигизм, который уравновешивает агрессивность первого. "Ленинград" ассоциируется с аполитичностью, с отказом от политики — это по-прежнему так?
— Ну политика — это события, а события меня вообще мало интересуют. Меня интересуют движения смыслов — в политике эти движения сложно разглядеть. Если ты за ней пристально следишь и отзываешься на каждое событие, на каждый факт, сознание замыливается. "Ленинград" все-таки про смыслы, про большие пласты — куда движется все, как меняется социум, какие взаимодействия, коммуникации, какой язык, опять же... "На лабутенах" — это же не про Ван Гога, правда же?.. Там самое важное происходит в языке; там важно, что она не "в лабутенах", а "на" — тут сам язык определяет смысл жизни. Язык поменялся, и мгновенно изменился смысл — мы же эту разницу понимаем.
— Я вспоминаю еще песню "Шлюха" из альбома 2014 года — там рефрен "расскажи ей, как жить не по лжи". Это ведь вы, по сути, полемизируете с Солженицыным. Получается целая этическая декларация: ваша интеллигентская, книжная мораль к живому человеку неприменима, она не работает...
— Более того, если обратиться даже не к словам, не к декларациям каких-то книжных моралей, а к математике... Уйдем от букв — возьмем сугубо числа. Что мы видим? Описание мира с каждым годом увеличивается, оно уже занимает п... какие объемы. Не говоря уже о том, что с помощью цифр невозможно описать мир, но даже человек неописуем, он — слишком сложная х..., да? Он не посчитан, условно, даже на одну сотую. Про мораль я в этом случае вообще не говорю — какие тут можно вывести законы поведения, если мы даже не знаем законов, по которым существует сам человек?.. Нет единой формулы, которая будет работать стопроцентно применительно к человеку, скажет нам с точностью — вот это так-то и так-то. Какая-то одна формула обязательно потребует дополнения другой, третьей, четвертой, пятой и так до бесконечности.
— Но все-таки есть этический конфликт — между одной Россией и другой. Между моралью в рамках государства и моралью, претендующей на бОльшую универсальность, общечеловеческую. Этот конфликт является сегодня значимым?
— Мне кажется, что демаркационная линия проходит по другим разломам — на уровне языка прежде всего. У нас сейчас четкое деление: вот есть официоз и есть язык улицы, язык общества. Они абсолютно не совпадают. Это, по сути, два разных языка. И один язык мало того, что не признает другой, так он еще и пытается запретить другой язык: как, например, пытаются запретить мат. Но ведь язык нельзя запретить. Язык жил до, живет сейчас и будет жить дальше. Что с этим противоречием делать? Причем проблема раскола языка вообще остается за скобками всех этих дискуссий. Этот официальный язык — он, конечно же, искусственный, нарочито загнанный в берега,— делает вид, что он и есть норма и ничего больше не существует, хотя жизнь кричит на другом языке, жизнь иначе разговаривает. Беда и власти, и интеллигенции, кстати, в том, что они варятся в замкнутой языковой среде.
— Получается, что нужно снять границы или хотя бы наладить связь между разными языками в России.
— Да. Как ни пафосно звучит, "Ленинград" этим и занимается.
— А вы в группе как-то обсуждаете политику?
— Конечно. У нас даже есть разные фракции.
— Ах, да, у вас же большой коллектив...
— У нас целый парламент. У нас 24 человека, есть коммунисты, традиционалисты... Кого там только нет. У нас представлены все.
— А либералы есть?
— Естественно, главный либерал — это я. Поскольку я позволяю все эти дискуссии, следовательно, я либерал.
— А столкновения между фракциями есть? Ну вот в 2014 году обсуждали происходящее в коллективе? Или все-таки на первом месте работа?
— Это важно, конечно, мы на репетициях обсуждаем все это. Я даже одну песню по этому поводу написал, но не выпустил. Это был как раз 2014 год... Традиционалистская партия в лице некоторых людей сказала мне: "Серега, б..., ты перебираешь". А я же прислушиваюсь. Я подумал еще один день и решил: да, действительно, я, наверное, перебираю.
— Но чтобы этим разным людям примириться, должны ведь быть какие-то общие ценности. На каком пункте можно договориться со всеми? Что является базой для широкого консенсуса? Деньги могут быть базой? Вот то, что они получают зарплату?
— На деньгах в России далеко не уедешь, это, б..., большое зло. Это невозможно попросту, деньги здесь ничего не решают. Там... сантехник пришел к тебе что-то ремонтировать. Если ты ему не понравился, никакими деньгами, б..., это не решишь. Он тебя пошлет на х... На чем все держится? Мы просто давно друг друга знаем. Наверно, во время концертов происходит снятие всех противоречий — вот этим угаром, иронией. Тем, что в принципе мы все время пытаемся отодвинуть точку взгляда, не приблизить ее, не копаться в мелочах, а всегда отъехать и показать, что за этими мелочами есть, б..., космос. Что-то большое.
— То есть общее дело, получается, становится такой примиряющей идеей?
— По большому счету, конечно, да. И, конечно же, помогает в этом смысле мат... Он не самоцель, не бравада — мы просто его используем. Просто берем и говорим, что он есть. Мы открываем глаза, смотрим на мир с открытыми глазами. И не боимся этого.
— Последний альбом у группы вышел в 2014 году, он назывался "Пляж наш". Получается, что уже 3 года не было альбома...
— Их и не будет никогда, я официально объявил, что время альбомов прошло, как и время жанровых групп.
— Три новые композиции — "На лабутенах", "В Питере пить", "Стас" — это, конечно, совершенно отдельная история "Ленинграда". Они выглядят уже как социологические исследования. Как обучающая программа. Их уже не назовешь клипами — это мини-фильмы. В общем, много функций. Как родился фактически новый жанр?
— Боюсь, это вообще является основной задачей художника — находить новые формы, новый язык, новые связи, да? Показать их, открыть. Действительно, это своего рода открытие.
— Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что видеоряд там уже важнее, текст уже играет роль сопровождающую.
— Нет, это не так. Я отталкиваюсь от текста, даю идею, говорю, как это должно быть примерно, но далее у режиссера полная свобода творчества. Это как соло на саксофоне, да? Я могу дать гармонию, на которую сыграть, но как это соло будет исполнено — это дело музыканта. Возможность для самовыражения. Мы с Анной Пармас (режиссер, сценарист, автор клипов "Ленинграда".— "О") идеально тут совпали, я ей даю полнейшую свободу, она ни разу не подвела. Этих героев я сравниваю с вселенной Marvel. А тут вот — вселенная "Ленинграда".
— Эти клипы опять же говорят от лица людей, чей голос почти не слышен сегодня.
— Да, эту интонацию на самом деле найти — самое сложное. Я нескольких режиссеров клипов забраковал, потому что у них появляется снисходительность, чувствуется, что они свысока поглядывают на этих героев. Я считаю, что мы не вправе так говорить и не вправе так действовать. Нужно любить людей. Если я в картинке не считываю этой любви, я это выкидываю. И достаточно много денег было потрачено впустую, чтобы найти уважительный взгляд.
— Производство этих фильмов насколько затратная вещь?
— Затратная. Вот бюджет у нас с каждым разом растет, причем это вынужденная мера, потому что мы стремимся сделать все лучше, качественнее, круче, сами себе задаем более высокую планку каждый раз. И мы не можем уже повернуть назад, это такая гонка вооружений с самими собой.
— Есть же какой-то сценарий вначале?.. Как это приходит? С чего начинается?
— Все начинается с припева, скажем так. Когда он складывается, я посылаю Ане, далее мы собираемся на кухне — я, продюсер, Аня, и втроем начинаем думать по этому поводу. У меня уже есть какие-то наброски и понимание того, что это должно быть, после ребята удаляются, присылают мне какой-то синопсис, иногда я прошу более подробную разработку, диалоговую. Но в последнее время уже даже не вмешиваюсь. Мне достаточно синопсиса, далее я что-то корректирую, и все, поехали, и снимаем.
— Эти герои — уже не прежние герои "Ленинграда". Тут нижняя граница среднего класса. Точнее, те, кто хотел бы запрыгнуть в средний класс, но пока только с помощью символических средств или везения. Это важная социологическая прослойка — там есть желание, а значит, и энергия.
— Что касается вереницы женских образов — это "картинки с выставки" (Мусоргский, кстати, один из самых моих любимых композиторов), плод наблюдений, размышлений о женской роли в современном обществе. Женщина вообще как лакмусовая бумага — она проявляет жизнь лучше, чем мужчина. Мужчина все-таки фигура молчаливая, он начинает говорить либо будучи пьяным — почему "Ленинград" все время пьяный,— либо в стрессовой ситуации. От этого кажущаяся агрессия моих текстов. Ситуация нужна стрессовая, иначе мужчину не разговорить. Женщина более пластична. Женщина говорит — говорит много, говорит интересности. И производит афоризмы, которые ловят эту жизнь. Рациональная оценка рождает эмоции. Вся наша эмоциональность отталкивается от рациональности. Это больше наблюдений, больше размышлений, больше записей, больше внимания.
— Может, это чисто русская история, потому что женщина в русской литературе, например, всегда сильнее мужчины, она чаще принимает решения.
— Они давно сильнее. У них только права голоса не было никакого, да? И женщина, естественно, когда попадает в публичное пространство, пытается казаться лучше, чем она есть. И весь ее внутренний мир остается как бы за скобками. Женщины сейчас — заказчики бытия. У них есть свое видение, как это все развивается, у них есть понимание. Вообще эстетика общая, общечеловеческая, становится все более женской.
— Ваши последние видеоработы созданы сознательно для сетевого зрителя. Это признание первенства Сети, ее преимущества? И как дальше у "Ленинграда" будет этот роман с Сетью складываться?
— Я за этим наблюдаю, пристально. Я смотрю, как ни странно, много видеоблогеров, смотрю, куда это вообще движется все. Вижу, что, конечно, в этом противостоянии интернета и телевизора побеждает Сеть. Это опять же вопрос языка. Вопрос того настоящего, большого русского языка — разговорного, актуального, который в интернете возможен, а в телевизоре нет. Вот и все, с такой форой Сети телевизору выиграть невозможно. Просто сейчас это отданная фора.
— А что будет с телевизором?
— Его досматривают. У меня был опыт телевизионный (в 2016 году вел ток-шоу "Про любовь" на "Первом канале".— "О"). Я увидел, как работает машина, она действительно большая, действительно неповоротливая. Очень много профессионалов — я их, кстати, использовал в клипе "Обезьяна и орел". Это все было снято силами "Первого канала", и ребята, конечно, очень отрывались. У нас в стране есть кому снимать. Другое дело, что этот формат гранитных берегов, в который они загнаны сегодня, не позволяет им фактически ничего сделать. Я же говорю — телевизор обречен, в лингвистическом смысле он просто проигрывает.
— Природа интернета диалогичная. И вот "Ленинград" тоже ведь диалог, а не монолог. Что редкость в России.
— Да, у нас правых и виноватых нет. У нас нет утверждений, нет повелительного наклонения, я всегда его избегал. Что так характерно для русского рока. Иди, беги, б..., не стреляй — они все время, сука, отдают приказы.
— Вы раскритиковали песню бывшей солистки "Ленинграда" Алисы Вокс (песня "Малыш", призывающая молодежь не участвовать в протестах).
— Мне не понравилось опять же вот это повелительное наклонение, эта позиция учительская. Потому что там глагольные рифмы, и сделано просто плохо. Ладно, мне без разницы, за кого воюешь, но воюй хотя бы хорошо. Я-то вообще, так сказать, пацифист. Пацифист, конечно, надо взять в кавычки, потому что я такой... кровожадный пацифист. Но что касается "Ленинграда"... Я не знаю, что там у остальных, но на наших концертах депутат Госдумы и дальнобойщик могут обняться. Это факт. Они и по возрасту разные, и культурно, и по уровню доходов. Но у нас на концертах все объединяются.
— Но при этом всенародных героев все-таки не осталось. Ни писателей, ни рок-музыкантов. Я это связываю с тем, что нынешняя власть хочет быть главной звездой во всех жанрах...
— Что одного героя на всех больше нет — это объяснимо. Как говорится, глупо быть подписанным на один канал в YouTube. Но по поводу причин вынужден не согласиться. Просто мы живем на каком-то мощнейшем временном изломе. Меняются средства коммуникации, меняется все. Пример тому — новые клипы "Ленинграда". Старые форматы больше не работают. Никакая песня со словами тебя не может так торкнуть, как то, что с видеорядом. Стало гораздо больше картинки. И это только начало. И понятно, что как только эти формы окончательно обретут форму, извините за тавтологию, как роман во времена Диккенса или как четыре человека с гитарами обрели форму рок-группы (их мгновенно стало тысячи, как в 1960-е), настанет новая эпоха. Сейчас что-то такое уже зреет — мы пока не знаем, что.