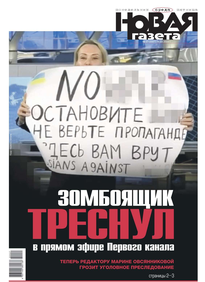Прибойная полоса интересна сама по себе как пограничная зона между двумя мирами — твердым и жидким (этим интересно и Приморье — граница между сушей и морем, Европой и Азией). Есть много теорий на тему того, что жизнь — то ли современная человеческая, то ли жизнь вообще — возникла именно в полосе отливов и приливов. Если эти теории верны, нам следовало бы молиться Луне, генерирующей эти самые приливы-отливы — мерное дыхание океана (все бы было, а не было бы Луны — и нас бы тоже не было?). Возможно, конструктивная человеческая неустроенность, ощущение неполноты жизни, постоянная тяга к иным сферам, щемящая незавершенность, проклятая неудовлетворенность собой берутся именно оттого, что человек возник на рубеже стихий и никак не найдет себя ни здесь, ни там.
Приморский климат — порождение этого стыка. Море и континент нагреваются и остывают с разной скоростью, и воздушные массы на границе моря и суши всегда конфликтуют. Отсюда — постоянные ветра, перетаскивающие погоду и непогоду туда и сюда. На берегу нет ни континентальной, ни океанской стабильности и предсказуемости. Наверное, это влияет и на людей.
Географически Приморье, конечно, не Россия. Я много лет разгадываю странный иероглиф полуострова, на котором живу. Иероглиф, написанный переплетениями сопок и падей, зданий и дорог, ветров и течений, восторгов и отчаяний. Может быть, он должен читаться «Хайшеньвэй», или «Урадзиосутоку», или «Си-хо-тэ». Я бы даже ввел новый иероглиф, который на русский приблизительно переводился бы как «япономорскость». Я — тихоокеанец, и потому Сан-Франциско или Токио для меня важнее Парижа или Лондона, хотя рос я на книгах о Париже и Лондоне. Я принадлежу не только русскому континенту, но и азиатским ландшафтам и акваториям.
Дальний Восток — название привычное и гордое («восток» — там, где солнце восходит, «запад» — там, где оно падает-западает, отсюда же «западня»). Я не собираюсь отказываться от почетного звания дальневосточника, но сам термин «Дальний Восток» неточен и полупренебрежителен. Термин «Тихоокеанская Россия», предложенный романтиками-академиками из Дальневосточного отделения РАН, лучше и глубже. В Дальнем Востоке — лишь территория, и то какая-то «дальняя», в Тихоокеанской России — открытость моря. Здесь уже нет дурной относительности «дали» и «востока», а есть акцент на Россию, дополненную Тихим океаном (меня, правда, и название «Тихий океан» не устраивает: какой он, к черту, тихий!).
Приморский край — термин тоже неидеальный: приморских территорий в России много, от Калининграда до Анадыря. Уссурийский край — выразительнее, но оставляет за кадром и море, и Сихотэ-Алинь, и всю южную часть края, фокусируя внимание на важной, но локальной реке Уссури. Тихоокеанский — слишком широко. Сихотэ-Алинский? Япономорский? Владивостокский? Мы все здесь — маргиналы, то есть люди, живущие на краю.
Приморцы — те, кто у моря, но сращение приставки «при-» и корня «мор-» сообщило слову новый смысл, отослав к латинскому «прим», то есть «первый». Этим успешно пользуются авторы наших брендов.
Мы не просто приморцы, это слишком общо, мы — япономорцы. Среднерусские пейзажи близки мне культурно, но страшно далеки географически. Японские и корейские ландшафты мне родные, но, боже мой, как их коренные (условно коренные; Лев Гумилев говорил, что по-настоящему «исконных» земель нет, история динамична) обитатели далеки от меня внутренне. Есенинские рязанские раздолья — наши, но и маньчжурские сопки — наши ровно в той же степени. Для японцев я навсегда останусь «гайдзином», чужаком. Но гайдзином — пусть не столь явным, «внутренним гайдзином» — я буду и в Москве. Не то — в любом дальневосточном или сибирском городе, где люди смотрят по-нашему, пусть этот взгляд часто бывает мрачен и пугающ.
Приморцы в широком смысле — особое племя. Я — из приморцев, и эта самоидентификация куда емче, чем прописка в том или ином «субъекте» Российской Федерации. Одних приморцев я видел в Неаполе, других — в Сан-Франциско, третьих — в Магадане, четвертых — в Нампхо, Пусане, Осаке и Иокогаме. Приморец — не административно-географическая, но ментальная характеристика. Есть горцы, а есть приморцы.
Не только на Камчатке, на Сахалине или в Магадане, связанных с «Большой землей» лишь водой и воздухом, допустимо говорить «материк» об остальной России. Я тоже могу сказать «поехать на материк», имея в виду, что мы живем на его кромке, у воды, чем отличаемся от настоящих «континенталов». Материк — это там, дальше, а у нас тут — берег. Мы живем не на материке и не в воде. Мы — полуостровитяне. Хабаровск, несмотря на его дальневосточность и грозно-прекрасный Амур, не вызывает у меня того восторга, как Владивосток или Магадан с Петропавловском-Камчатским. В Хабаровске нет моря, нет особого воздуха, пронизанного свободой, некоторой необязательностью и даже расп…йством, берущимися от того ощущения непрочности, летучести, непредсказуемости жизни, какое бывает только в портовых городах.
Дальневосточниками не рождаются. Дальневосточниками стали петербуржец Арсеньев и уральско-тверской Фадеев. Мало родиться на этой земле — надо пропитаться этими землей и водой. И тогда Мамины становятся Сибиряками, а Муравьевы — Амурскими.
Я не очень верю в «кровь» и «менталитет», мне ближе понимание национальности как характеристики скорее приобретенной, нежели врожденной. Но верю в то, что на характер живущего (особенно растущего, юного) человека влияют окружающие его реалии: ландшафт, погода, люди, еда. Географический, климатический, геологический, гастрономический, контекстный детерминизм, о чем писали многие — от Монтескье до Гумилева.
По отцу я — приморец в четвертом поколении: даже мой дед родился здесь, в «Зеленом Клину», еще до революции. По маме — сибиряк, забайкалец. Наши среднерусские и украинско-белорусские корни теряются в зияющих дырах семейной генеалогии, и я иногда не верю вполне, что происхожу оттуда же, откуда все остальные русские люди. Моя фамилия — единственное почти вещественное доказательство того, что не всегда мои предки жили в Сибири и на Дальнем Востоке, как мне это кажется.
Всегда выступал против попыток выделить уральцев, сибиряков или дальневосточников в особый этнос, придерживаясь традиционно-имперских взглядов и с удовольствием принимая формулу о «новой единой общности — советском народе» (эту общность я сегодня — с все меньшим успехом — пытаюсь разглядеть в среднеазиатских гастарбайтерах, которых в нынешнем Владивостоке куда больше, чем китайцев). Культурное и языковое единство России само по себе представляется мне удивительной и великой ценностью. Наша речь, где бы мы ни жили, отличается мелочами — оканьем или аканьем, какими-то словечками или оборотами. Не то — в Китае, где жители разных регионов порой попросту не понимают друг друга.
В последнее время, оставаясь принципиально согласным с вышесказанным, я все чаще думаю, что мы все-таки выделяемся в некий особый если не этнос, то субэтнос, оставаясь русскими в узком и широком смыслах. Если калифорнийцы отличаются от луизианцев, нет ничего странного и страшного в том, что приморцы отличаются от вологодцев. Ведь Владивосток — не Вологда, а Вологда — не Ростов-на-Дону. Россия слишком велика даже просто территориально, чтобы быть тотально однородной. Ученые добавляют к названию того или иного зверя уточняющий эпитет: не просто тигр, но амурский или бенгальский; не просто селедка, но атлантическая или олюторская (происходит от Олюторского залива на Камчатке, причем неграмотные продавцы иногда пишут «алеуторская» — и не так уж это абсурдно). Можно подобным образом классифицировать и жителей огромных государств. Китаец южный, западный или северо-восточный; московский русский, или тихоокеанский русский, или южный русский. Появилось же слово «сибиряк», поначалу обозначавшее место проживания, а теперь почти национальную идентичность особого народа — сибирских русских. Если есть «сибиряк», можно настаивать на «приморце». При море сформировалось особое племя, новая порода русских — приморцы, тихоокеанцы, далеко ушедшие от своих украинских и среднерусских предков. Русскому Приморью каких-то полтора века, но здесь в несколько слоев лежат наши кости, сопки Маньчжурии политы и нашей кровью, поэтому мы по праву считаем себя коренными жителями этих мест.
Мы пришли сюда и освоили эту землю. Одновременно эта земля освоила нас. Мы ее русифицировали — она нас тихоокеанизировала. Мы думали, что подчинили землю себе — и не заметили, как она подчинила себе нас. Оставшись европейцами, живущими к востоку от Китая, мы частично стали азиатами. В силу маньчжурской природы и морского питания химический состав наших тел постепенно эволюционирует в азиатском направлении, сохраняя вместе с тем базовые русские черты. Меняются некоторые алгоритмы индивидуального и социального поведения. На это влияет все — от азиатского соседства до распространения правого руля и нерусских ландшафтов.
Старые русские — народ речной. В этом смысле я не совсем русский: с детства я привык к тому, что в городе должно быть море. Причем именно Японское — выбрасывающее после штормов на берег банки и бутылки с иероглифами, кишащее юго-восточными моллюсками и рыбами. Владивосток — город преимущественно европейский, но я настолько же отличаюсь от «эталонного» русского, насколько мой рацион отличается от традиционной русской пищи. Тихоокеанская рыба с ее йодом и фосфором, морская капуста, ракушки, японские супы мисо занимают в моем рационе столь же законное место, сколь и типично русские блюда. Еда влияет не только на физиологию. Попав в Японию, я начал понимать, зачем они едят палочками. Во-первых, палочками не переешь, как нашими излишне вместительными ложками, — ведь чувство сытости запаздывает, а в случае с палочками оно как раз успеет за едоком. Когда-то это было актуально для полуголодной нации, выживающей рисом да соей, теперь не менее актуально для нации сытой, чтобы она сохраняла стройность, ценную не только с медицинской, но и с эстетической точки зрения. Во-вторых, это просто красиво и достойно — не набрасываться на еду, как будто приехал «из голодного края», не стремиться поскорее зачерпнуть ложкой побольше и еще наколоть на вилку, а изящно, рисинка к рисинке, кусочек за кусочком, насыщаться, не делая из еды пошлого буржуазного культа.
Запах рыбы благороднее, тоньше, легче, чем грубый запах мяса. Питаясь рыбой, человек приобретает изящество японца, тогда как плотная мясная сытость сообщает человеку тяжелую, налитую силу англосакса. Что лучше? Оба лучше. Природа подарила нам способность функционировать на разном топливе, что дает человечеству возможности альтернативного развития: вот — японцы, вот — немцы, вот — эфиопы, вот — русские… Медики всего мира думают, в чем секрет долгой жизни японцев. У них ведь куча вредных привычек: курят, пьют, вкалывают, но живут — долго. Может быть — как раз из-за тихоокеанской рыбы. «Они постоянно помнят, откуда мы все вышли. Из Океана. Поэтому в пищу употребляют все, что там шевелится и произрастает. В как можно более сыром, натуральном виде, — писал русский японец Дмитрий Коваленин. — Мозгу для нормальной работы нужен йод, а он в больших количествах содержится во всем, что живет в морской воде».
Нам надо менять пищевые привычки. Те, кто в советские времена иронизировал по поводу «рыбных дней» и демонизировал рыбий жир, ничего не понимают. Позднесоветский колбасный фетиш, ради которого разрушили империю, пора сбросить с пьедестала, как в 1991-м сбросили на Лубянке Дзержинского. Долой колбасный патриотизм, лучшая колбаса — это рыба.
У приморского человека особые отношения с рыбой, которую он видел живьем, и ловил, и чистил, и готовил. Японцы понимают это лучше. У каждой японской префектуры — свои природные символы. Например, у Тоттори свой цветок — груша, птица — мандаринка, дерево — остроконечный тис, рыба — ложный палтус. Символы префектуры Ниигата — тюльпан, красноногий ибис, снежная камелия. Город Хакодате выбрал тис, азалию, синицу и кальмара. На флаг японцы поместили солнце — в отличие от европейцев, стремящихся в своей символике подчеркнуть собственную исключительность, а не нашу зависимость от высших сил.
У азиатов и монеты поэтичные и экологичные — с растениями, с животными; не то что европейская дворянская напыщенность. В России пока отдают предпочтение помпезным европейским геральдическим символам с опереточными в сегодняшних реалиях рыцарскими щитами и мечами, но меня греет, что на нашем приморском гербе все же есть тигр — то есть живое и местное. На флагах некоторых дальневосточных городов есть лосось — вполне по-дикарски в хорошем смысле слова. У Владивостока в 1994 году появился — с подачи профессора-ботаника Харкевича и по совету гостей из побратимской Ниигаты — официальный растительный символ: рододендрон остроконечный, в просторечии называемый багульником. Мы тоже уловили что-то важное, растворенное в тихоокеанском воздухе.