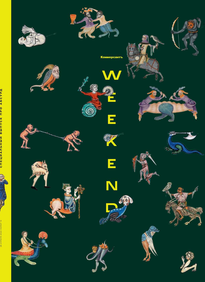5 марта исполняется 100 лет Пьеру Паоло Пазолини. Из этих 100 он прожил чуть больше 50 и большую их часть отдал исследованию разных проявлений насилия. Определенные обстоятельствами и историческим моментом формы насилия разнятся, но само по себе оно, показывает нам фильмография Пазолини, универсально. Едва зародившись, оно быстро становится властным и победительным, правит телами и судьбами и в конце концов сжирает творящих его. Последние никогда не знают отпущенного им срока, как и того, что обречены оказаться такими же беспомощными и жалкими, как и их недавние жертвы.
Фильмы Пазолини, возможно, самые несовершенные шедевры в истории кино. Эстетически случайное намертво соединяется в них с бесспорным и почти расхожим. Они собраны из обрывков догматических идеологий ХХ века, метафорической фантазии литератора, этнографических восторгов путешественника, жизненного опыта отщепенца и мечты о большом успехе невероятно одаренного кинематографиста.
Но сквозь все его картины проходит один лейтмотив — лейтмотив в том, вагнеровском, смысле, который подразумевает единство атмосферы и сюжета. Это насилие.
Насилие и смерть в фильмах Пазолини — не синонимы зла и не его следствие (единственное исключение — «Сало, или 120 дней Содома»). Насилие и смерть в них даже не угроза — они просто часть любого сюжета, любой ситуации, любой встречи. Они выныривают буквально из любой дыры, физической и метафизической. Везде, где есть встреча человеческих существ, есть боль, борьба, смерть. Ничего не угрожает только тому, кто находится в полном одиночестве и не вблизи от человеческого жилья — и длинный план одиноких проходов по лесным зарослям, песчаным барханам, горным склонам встречается почти в каждом его фильме, это моменты полной безопасности. Человек у Пазолини смертен не «внезапно», то есть в какой-то один, непредсказуемый момент,— он смертен всегда, в любой точке своего существования. Его можно в каждую секунду вычесть из окружающей жизни. Это свойство взгляда, режиссерского взгляда, который разглядывает лица и фигуры,— за свою кинематографическую жизнь Пазолини снял несколько тысяч человек — так, будто бы не рассчитывает их больше увидеть, но хочет запомнить навсегда; будто бы каждый взгляд первый и последний. Персонажи Пазолини, неважно, являются ли они главными или второстепенными, существуют в этом микроскопическом просвете времени первого-последнего взгляда, соответствующем даже не секунде, а, возможно, той 1/24 секунды, которой равен один кинокадр.
Насилие у Пазолини смотрит на героев разными глазами — глазами веры, желания, нищеты, власти.
Насилие судьбы
«Медея» (1969), «Эдип» (1967)
Героев античного мифа ведет и убивает рок, предначертание. В прологе «Медеи» народ, к которому принадлежит Медея, будет долго готовиться к какому-то помпезному ритуалу — во имя то ли плодородия, то ли военной победы, то ли удачной охоты: это не имеет никакого значения. Где-то на краю приготовлений камера выхватит лицо улыбающегося молодого человека — и тут же опять надолго потеряет его в десятках других лиц и улыбок, в сутолоке толпы. Когда к ритуалу все готово, молодой человек снова вынырнет в центре кадра — камера посмотрит на него без особенного внимания. И, несмотря на то, что нам не известен ни смысл, ни порядок происходящего, мы безошибочно поймем, что вот этот самый, улыбающийся туповатой улыбкой,— жертва. В течение следующих минут он, действительно, превратится в груду разодранного мяса и несколько мисок крови. Во всем этом нет ни капли агрессии, с одной стороны, и страха — с другой. Невозможно даже понять, знает ли улыбающийся юноша о своей судьбе. Невозможно — потому что не имеет значения.
Все, что после этого произойдет с Медеей, пройдет под тем же знаком «отсутствующей информации». Встреча Медеи и Ясона — не встреча со страстью и не внезапное всепобеждающее желание неизвестного будущего. Здесь нет никаких желаний — и для этого нужны ничего не отражающие глаза Марии Каллас, у которой, кажется, вообще нет зрачков. Этими глазами она будет смотреть и на золотое руно, которое станет ее приданым, и на младшего брата, Апсирта, которого она заманит к себе в сообщники и потом убьет так же без размышлений и оглядки, как приносят ритуальную жертву в начале фильма — только голова по песку покатилась.
Когда в финале брошенная Ясоном Медея передает Главке заколдованное свадебное платье, тяжелый и роскошный варварский наряд, то и этот смертельный подарок Главка надевает на себя без всякого желания или участия. Оно должно на ней оказаться. Оно должно. Она должна. Они должны. В пространстве мифологического действия у Пазолини перестают иметь значение человеческая воля, мотивы, характеры. В финале фильма это не-действие становится почти издевательским. Сцена убийства детей нарочито сентиментальна по форме (перед тем как поджечь дом, Медея уводит их спать одного за другим, нежно прощаясь с каждым), но не вызывает ничего, кроме оцепенения. Медея Марии Каллас не детоубийца, потому что она не автор своих действий.
Та же внеличная сила ведет протагониста в «Эдипе». Нет ни случайности, ни человеческой заслуги в том, что младенец, выброшенный из дома Лаем, остается в живых: у Пазолини спаситель (и будущий приемный отец) Эдипа идет навстречу тому человеку, который только что отнес новорожденного в пустыню. Где-то поблизости по песку проползет змея — не угроза, а так, напоминание, почти шутка: оператор с режиссером даже не сделают попытку как-то соотнести змею с младенцем в соседнем плане. Один пришел положить — другой идет забирать, нет смысла создавать драматургию опасностей и напряжений там, где нет человеческих мотивов.
И так же, как был спасен Эдип, он будет превращен в убийцу и кровосмесителя. Только, в отличие от Медеи, пазолиниевский Эдип сопротивляется: он наделен сознанием какого-то другого века (в начале фильма нам даже объяснят, какого именно — стартовая секвенция показывает отца-офицера, ревнующего жену к новорожденному сыну, дело происходит во время Первой мировой войны, время появления на свет эдипова комплекса; в финале слепой Эдип окажется в этой же эпохе). Получив свое пророчество, он начинает от него убегать. И прежде чем нанести смертельный удар Лаю на залитой солнцем пустой дороге, он будет, задыхаясь, бежать от него и от его охраны. И убьет в результате всех, не защищаясь и не нападая. Просто повинуясь чему-то, чего ни мы, ни он не видим — и так и не увидим до финала.
Насилие веры
«Евангелие от Матфея» (1964)
Хорошо декорированный под аккуратный байопик, подчеркнуто использующий только тексты оригинала, фильм этот между делом доказывает, что взгляды художника — это последнее, чем имеет смысл интересоваться, когда имеешь дело с его произведениями. О «Евангелии» Пазолини наговорил, кажется, больше всего — для левого скандального художника обращение к теме требовало каких-то обоснований. К тому же примерно за год до съемок Пазолини уже один раз отсидел в тюрьме за богохульство — после появления эпизода «Овечий сыр» в фильме-альманахе «РоГоПаГ».
Объявляя себя то марксистским католиком, то атеистом, то человеком, овладевшим на время съемок двойной оптикой — абстрактного верующего и самого себя, режиссер защищал фильм от возможных нападок со всех сторон. И, кажется, вполне удачно. Ватикан объявил фильм Пазолини лучшим экранным воплощением образа Христа, левая мифология записала его в апологию раннего марксизма.
На самом деле, кроме евангельского текста, здесь есть второй, неслышимый и невидимый, но это вовсе не протомарксистская проповедь в защиту мира голодных и рабов. В ту минуту, когда на экране появляется испанский студент Энрике Ирасоки в роли Иисуса, вся идейно благонамеренная сюжетность фильма превращается в ничто. Если в этом фильме от кого-то и исходит ощущение угрозы и насилия, то именно вот от этого человека с красивой, непропорционально большой головой и кротким голосом. Это не то насилие, которое «не мир, но меч», не обещание смуты и раздела, а насилие взгляда, который, кажется, в любой толпе видит «своих», а на самом деле просто любого без разбора может назвать «своим» — и этим мгновенно изменить судьбу. Иисус у Пазолини превращает веру в приказ.
Его готовность и право произносить слово, обрывающее любую прежнюю жизнь, выдергивающее любого человека из повседневных дел, превращающее избранного в странника, в последователя, не подлежат обсуждению и сомнению, эти готовность и право даны в условии задачи. У Иисуса Ирасоки взгляд человека, находящегося в экстазе приказа, и в этом экстазе нет ничего человеческого. Так он возьмет с собой в дорогу рыбаков Симона и Петра — они уйдут, не оглянувшись ни на что, чем жили до сих пор. Но так же он скажет Петру о его предательстве — это будет не пророчество, не предвидение, а именно приказ, веление. Петр этот приказ исполнит, как исполнит его и Иуда — и потом торопливо, бегом ринется вешаться на осине. В сравнении с этим взглядом и с этим непререкаемым правом на любую жизнь зримое насилие распятия выглядит бутафорией. И если что-то в этой бутафории и трогает, то только та улыбка, с которой Мария будет смотреть в пустую пещеру через три дня.
Единственный, на кого не до конца распространяется власть Иисуса,— это он сам, и самые человечные минуты фильма — молитва в темном и пустом Гефсиманском саду, где он будет ходить, спотыкаясь, ища тот взгляд в небо, который вернет ему веру в необходимость происходящего и заберет страх перед неизбежным.
Насилие желаний
«Декамерон» (1971), «Кентерберийские рассказы» (1972), «Цветок 1001 ночи» (1974)
То, что сам Пазолини называл «трилогией жизни», построено по принципу, который он предпочитал всем остальным,— сплетенные новеллы, короткие истории, складывающиеся в большую картину. Это сборники анекдотов — требующих не столько юмора, сколько определенного остроумия, фривольного и безжалостного. Но безжалостность и насилие здесь, если можно так сказать, веселые. Во всяком случае, жизнелюбивые. Это насилие, которое естественным образом рождает человеческая плоть и человеческая фантазия, предоставленные сами себе. Это насилие случайное, но возведенное в принцип, просачивающееся сквозь все сюжеты и все фигуры.
В «Декамероне» две молодые монашки сговариваются о том, как бы использовать молодого садовника для первого любовного опыта,— и, сговорившись, нетерпеливо тыкают в него подвернувшейся веткой, чтобы привлечь к себе внимание, как будто дразнят обезьяну в цирке. Насилие в этой истории начинается с ветки, а вовсе не с того, что там потом садовник делает с монашками в заброшенном сарае. Во всех трех фильмах будет и кровь, и отрезанные головы, и уличные драки, и многое другое. Но сама ткань трилогии состоит именно из таких моментов и жестов — из шуток и шалостей человеческой плоти, которые могут быть опасными, жестокими, тупыми, но не отрицают человеческую природу, не отказываются от нее. В том же «Декамероне» двое юнцов буквально терроризируют свою сестру и в конце концов убивают ее ухажера: это убийство от избытка плотских сил, от скуки двух молодых самодовольных животных, завоевывающих себе место в окружающем мире — мире рук, ног, грудей, задов, членов,— которые живут и требуют своего. Дружеский пинок может оказаться началом смертельной драки, поцелуй незнакомой красавицы — коварной западней, и вообще, любое заманчивое предложение, скорее всего, таит в себе ловушку: даже если девочка и мальчик сошлись друг с другом по любви, то родители видят в этом повод немедленно устроить выгодную свадьбу, и вот тут уже любовь превращается в насилие. Но зато, когда в «Кентерберийских рассказах» богатый старик женится и в свою первую брачную ночь танцует от счастья, потому что «смог два раза», то совершенно бесчувственная в постели молодая невеста смотрит на его танец со счастливым, искренним смехом, на минуту превращающим этот идиотский брак в абсолютно гармоничный.
Пазолини в «трилогии жизни» — лучший марксист, чем где бы то ни было еще,— он начинает с «базиса», с человека, как грубой материи жизни, и применяет для драматических поворотов сюжета гегелевскую диалектику, согласно которой все человеческие удовольствия оказываются началом чувствительных неприятностей — и наоборот.
Насилие нищеты
«Аккаттоне» (1961), «Мама Рома» (1962)
Автобиографичен Пазолини только в своих первых фильмах, но «первые фильмы» в его случае не означает — ранние. Он дебютирует в полном метре почти в 40 лет, имея в анамнезе войну, семейные драмы, убогие заработки начинающего литератора, увлечение радикальной политической левизной.
Ну и постмуссолиниевскую Италию, разгромленную и выжившую. Это страшно киногеничная Италия, любимая героиня неореалистов. Пазолини не неореалист, но, конечно, и его первые протагонисты — плоть от плоти того хаотичного, громкого и бесконечно родного роя, который знаком ему с детства,— ремесленники, мелкие торговцы, проститутки и их сутенеры, скучающие подростки, высушенные работой отцы семейств. В этой роевой жизни масса живописной архаики, и даже может показаться, что достаточно переодеть разрозненную толпу — и «Мама Рома» превратится во что-то вроде «Медеи», а «Аккаттоне» — в современную вариацию «Декамерона». К тому же лица, действительно, будут повторяться, многие актеры, с которыми Пазолини снимал свои ранние фильмы, работают с ним всю жизнь. На самом деле это не так.
В «Аккаттоне» и «Маме Рома» есть тот самый мотив, который, очевидно, является автобиографическим и которого нет в более поздних фильмах. Здесь герой находится под давлением «общины» как таковой. Угрозу жизни и благополучию каждого представляет весь рой в целом: прежде всего потому, что объединяют его неблагополучие и нищета. В «трилогии жизни» богатство и бедность — просто два примерно равноправных условия игры, два декоративных мотива; в «Евангелии», «Медее» и «Эдипе» материальное благополучие не играет никакой сюжетной роли. Золотое руно — символ нематериального величия, а не богатства; украшения Медеи — знак причастности ритуальному, варварскому колдовству. А вот в условной «дилогии нищеты» (на самом деле можно добавить еще короткометражный «Овечий сыр» из киноальманаха «РоГоПаГ», безусловно относящийся к тому же ряду, и тоже выйдет своего рода трилогия) материальное благополучие — главное обстоятельство сюжета.
Вернее, неблагополучие. Это мир тяжко работающих и тем не менее нищих людей. Первые киноистории Пазолини — истории выживания. Социум выживающих представляет собой угрозу просто самим своим существованием, тем, что постоянно напоминает о себе. Мама Рома Анны Маньяни буквально душит своей заботой сына-подростка, ее материнская любовь-насилие питается вовсе не психологическими комплексами (смертельные психологические комплексы могут позволить себе только сытые люди, и это мы у Пазолини тоже увидим, но существенно позже), а страхом навсегда остаться в том убожестве, в котором она сама жила большую часть жизни. Во имя исхода из этого убожества она готова на все — и сама внушает сыну представление о недопустимости убожества. Именно поэтому, узнав о том, что мать — бывшая проститутка, он ломается полностью. Так же сломается и пропадет сутенер Аккаттоне — ему даже не понадобится никакого давления, нищета просто сожрет его в буквальном смысле слова, и помочь будет некому, хотя все и держатся друг за друга.
Нищая стая — стая конкурентов и безжалостное напоминание о том, что тебя ждет в самом низу, а посвященные этой стае ранние фильмы Пазолини — не столько Италия неореалистов, сколько дополнительный круг Дантова «Ада», ад выживающих.
Насилие подсознания
«Теорема» (1968), «Свинарник» (1969)
Самый стерильный и самый грязный фильмы Пазолини сняты подряд, оба безжалостно плоско метафоричны — и в обоих безжалостность и плоскость доведены до гротеска притчи. Оба довольно очевидным образом вписываются в контркультуру протестного времени, одновременно ее же и пародируя. Безжалостность «Теоремы» гипнотизирует, безжалостность «Свинарника» пугает, отталкивает, возмущает, притом что содержание обоих фильмов примерно одинаково. Они о том, что самая опасная часть человеческого тела — голова.
Стерильность «Теоремы» показывает человеческие головы, так сказать, снаружи. Неизвестный молодой человек, неизвестно как и откуда появившийся на лужайке буржуазной виллы,— пародийный двойник Иисуса Энрике Ирасоки, масскультовая карикатура на спасителя с внешностью среднеголливудского стандарта. Но ничего, кроме пародии, обитатели виллы и не заслуживают: у них нет судеб, есть лишь задавленные, убитые жизнью фантазии. Все эти фантазии реализуются в сексуальном влечении к незнакомцу, который безотказно и кротко уступает желаниям и жены хозяина, и прислуги, и хозяйского сына, и хозяйской дочери, и, наконец, самого хозяина. В кротости этой есть скрытая усмешка, природа которой так и остается невыясненной, но догадываться о ней можно. Карикатурный спаситель, скорее всего, в глубине души карикатурный революционер, то есть провокатор. И внесение смуты в высокопоставленное семейство, скорее всего, засчитается ему в каком-нибудь коммунистическом раю, которого, впрочем, не существует.
В любом случае восстание эротических тараканов в головах всех окружающих — лишь предвестник восстания неврозов, которое начинается после скорого и бесследного исчезновения незнакомца. Неврозы эти, правда, вполне безобидные: от случайного секса до маниакального изготовления произведений современного искусства и переживания собственной святости. Скромное безумие буржуазии (снятое за четыре года до фильма Бунюэля) производит впечатление в первую очередь тем, с какой скоростью его пламя охватывает весь почтенный дом, а во вторую — своим убожеством. Дальше желания раздеться догола на вокзальном перроне дело не идет. Но само наличие задавленных и изувеченных этой задавленностью желаний — угроза. В другой день или в другой голове они могут восстать по-другому.
«Свинарник» — это как раз «Теорема», разыгрывающаяся в других головах. В фильме, который, кажется, не прошел регулярную цензуру ни в какой стране мира, один главный герой — скотоложец, второй — каннибал, их истории разворачиваются параллельно. Даже наказано зло в этом фильме в извращенном виде: скотоложца сжирают свиньи, каннибала бросают на растерзание хищникам. Насилие, которым пронизана жизнь обоих персонажей,— свиньи в качестве сексуальных партнеров и человеческое мясо в качестве пищи — материализация их собственного воображения. Молодой человек, совокупляющийся со свиньями,— наследник индустриальной династии, его фантазии семейного происхождения: семейные комплексы и проблемы — своего рода бесы, «вошедшие в стадо свиней». Но это изнанка, рядом с ней существует лицевая сторона, в которой тот же наследник индустриальной династии — застенчивый интроверт и собирается жениться на хорошенькой девушке, чьим главным недостатком является глуповатый политический активизм. Изнанка сама по себе всего лишь тошнотворна, но в совокупности с лицом превращается в кошмар, по сравнению с которым ужасы в «Медее» или «Эдипе» выглядят простыми и ясными несчастьями.
Сам с собой человек обходится существенно хуже, чем с ним обошелся бы рок: эдипов комплекс травматичнее эдиповой судьбы.
Насилие власти
«Сало, или 120 дней Содома» (1975)
«Сало» — невыносимый фильм в том смысле, в котором невыносимы некоторые тексты Кафки. Это фильм, из воздуха которого выкачано вообще все, кроме насилия. И это единственный фильм Пазолини, в котором между насилием и злом без оговорок поставлен знак равенства. Место действия романа маркиза де Сада перенесено на задворки Второй мировой войны, в марионеточную республику Сало — политическое образование столь же отталкивающее, сколь и недолговечное: созданная осенью 1943-го республика Сало держалась на штыках нацистов и продержалась на них около полутора лет, до весны 1945-го.
В фильме Пазолини где-то там, в недрах этой республики, располагается гигантская заброшенная вилла, куда для развлечения функционеров и чиновников насильно свозят молодых людей обоего пола, с которыми «высшим» существам разрешено развлекаться, как им вздумается, подвергая любому насилию, которое человеческому существу может прийти в голову по отношению к себе подобным. «Господа», «заложники», «посредники» и «охранники» составляют персонал этого фильма и в более широком смысле — структуру сообщества. Своего рода каталог этого насилия и реакций на него и представляет собой фильм Пазолини. При этом его «господа» — буржуа, солидного, основательного вида мужчины. У каждого из них, как и у каждого из «заложников» и «посредников», есть характер, есть собственный сюжет и интерес в общей свалке эксцессов.
Невыносимость фильма, в частности, основана на том, что все происходящее не анонимно ни одной секунды — здесь издеваются над индивидуальными телами, лицами и душами. Но важно и другое. В отличие от «Свинарника» и «Теоремы», лента «Сало, или 120 дней Содома» — не история спущенного с поводка буржуазного подсознания. Это история власти, которой временно дарована вседозволенность. А уж вседозволенность рождает грязные, смертельные, извращенные фантазии. У Пазолини вседозволенность «господ» обретает черты постоянного сексуального перевозбуждения и стремления извлекать чувственное удовлетворение из издевательства и насилия.
Литературной основой для фильма Пазолини выбирает тексты маркиза де Сада, либертина и аристократа, и по сию пору лучшего летописца сексуальных эксцессов. Про такие эксцессы сам Пазолини, очевидно, был не просто наслышан, но то, что он снял,— не ролевая игра и не документация вышедшей из берегов БДСМ-вечеринки.
Кадры, которые решают в этом фильме все и определяют его смысл и характер, практически безобидны. Они показывают насилие не за работой, а за приготовлением к ней. Это сцены, в которых будущие «заложники» и «господа» рассматривают друг друга при первой встрече — под ружьями охраны. Это и есть главный сюжет фильма, сюжет демонстрации власти. История взглядов, которые предъявляют права на чужое тело и чужую волю. Взглядов, знающих, что эти права охраняются вооруженными людьми и что за границами виллы не существует никакой другой жизни и никакого другого закона, к которому можно было бы воззвать. Правда, эти взгляды не знают того, какой срок им отведен во власти: название фильма его участники прочитать не могут.