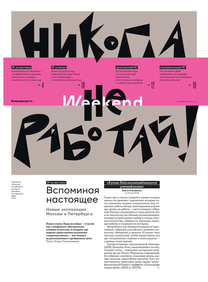Улица, площадь, переулок, двор, парк — это существовало в городах более или менее всегда, с Иерихона и Ура. Бульвар — изобретение новоевропейское, его не было ни в античности, ни в Средние века. Не то чтобы город был такой вещью, в строении которой трудно что-нибудь изобрести — возьмите хоть микрорайоны с панельным жильем,— но трудно изобрести что-нибудь новое так, чтобы оно прижилось. Москву легко представить себе без микрорайонов, но трудно без бульваров. Появление в городе нового места — это улика, она заставляет подозревать, что в городе появился какой-то новый человек, кому оно предназначено.
Бульвары возникли как побочный продукт гонки вооружений — развитие артиллерии привело к тому, что земляные бастионы вокруг городов утратили смысл. Их засадили деревьями (точнее, перестали рубить те, что там росли,— до того корни деревьев использовались как средство укрепления почвы). Само название "бульвар" происходит от голландского bolwerc — "бастион", из-за бастиона Grand Boulewart напротив Бастилии, который в 1670 году первым был превращен в бульвар усилиями Людовика XIV. Атмосфера Парижа эпохи "Трех мушкетеров" более или менее проясняет замысел короля. Брошенные городские стены и рвы были чем-то вроде Парка культуры до правления Сергея Капкова, местом невинных развлечений десантников и пограничников, мушкетеров короля и гвардейцев кардинала, слишком специфическим местом в городе, чтобы и дальше терпеть его наличие. Впрочем, место изменилось, а публика не вполне — в отличие от парков, бывших частной аристократической собственностью, бульвары стали местом демократического приобщения горожан к природе. Некоторый след этого отличия парка от бульвара еще сохраняется в оппозиции высокой поэзии садов и бульварной литературы, хотя, кажется, уже почти стерся.
Правда, бастионы — это не единственный источник происхождения бульвара. Существовал и другой, аристократический. Мария Медичи, вторая жена Генриха IV, была, если верить Генриху Манну, достаточно меланхолической натурой, не слишком счастливой со своим любвеобильным мужем. Из Флоренции она вывезла любимое развлечение — катание на экипажах по аллее (Corso) вдоль реки Арно. Так вдоль Сены у Тюильри появилась в 1616 году аллея Королевы (Cours la Reine). Нововведение подхватили в Мадриде (Прадо), в Риме (где Корсо приводила к Форуму, вокруг которого было принято кататься, рассматривая руины) и в Лондоне (Пэлл-Мэлл, где деревьев в итоге не осталось).
Но при всем различии в социальном положении родителей бульвара у них было одно общее свойство. Они не были горожанами. Аллея — не городское изобретение, обсаженные кипарисами сельские дороги, так восхищающие нас в Тоскане, отмечали пути к аристократическим поместьям (они создавали приятную тень в итальянский полдень, и сажать кипарисы было обязанностью арендаторов). Бульвары на месте стен и валов обозначали границу города, место, где начинаются поля и леса. И то и другое было вторжением в ткань города посторонней, чуждой ему морфологии — парка.
Это не был парк XIX века с его культом природы и свободы, это был ученый парк классической Европы. Осип Мандельштам точно передал то специфическое понимание природы, которое запечатлено в европейских классических парках: "Природа — тот же Рим и отразилась в нем. // Мы видим образы его гражданской мощи // В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, // На форуме полей и в колоннаде рощи".
Это идеальный мир античной поэзии и мифологии, населенный нимфами и сатирами, философами и поэтами, и в этой парковой античности не было ничего банальнее, чем сопоставление колонны и дерева. Парки с их зелеными театрами, полянами — залами, рощами — храмами были подобием римских форумов, живым доказательством важной для классической эстетики мысли о единстве архитектуры и природы.
Нас же более всего интересуют колоннады — рощи. В римской античности был один уникальный градостроительный прием — колонная улица, когда вдоль улицы ставилась на всем ее протяжении мраморная колоннада, а за ней могли быть любые частные фасады. Как правило, сами дома, сделанные из кирпича, не сохранялись — оставались только ряды колонн, которые и сегодня поражают нас в римской Африке и Азии, а в XVII веке поражали и в Европе. Аллеи были аналогами этих улиц, и деревья изображали собой колоннады античности.
Разница между бульваром и корсо заключалась в том, что по бульвару гуляли пешком демократические элементы, а по корсо ездили на экипажах аристократические фигуры. Великая французская революция перемешала сословия, и так возник французский бульвар. В нем были разделенные полосы движения для экипажей и пешеходов, их порядок мог меняться — как в Москве, где пешеходы движутся по центру, а транспорт по краям (московские бульвары — классические, они возникли на месте городских стен), или как на некоторых бульварах в Париже, где транспорт в центре (это в основе — аллея). Но главное — не порядок, а то, чем они были разделены — деревьями.
Это создало специфический статус бульвара как несколько постороннего городу места. XIX век открыл фигуру фланера — Бальзак, Гоголь, Бодлер, Эдгар По посвятили фланеру диагностические очерки. Там есть своя если не феноменология, то мифология, детально исследованная Михаилом Ямпольским в завораживающей книжке "Наблюдатель. Очерки истории видения". Фланер был чем-то остро новым, явлением как бы никогда ранее не встречавшимся и требующим легитимации. Шарль де Сент-Бев писал, что фланирование есть "нечто прямо противоположное безделью", Бальзак употребляет формулу "гастрономия для глаза", Бодлер просто воспел фланера. Среди урбанистов принято отдавать внимание этой фигуре, отмечая здесь феномен чисто городского поведения.
При всей развитости этой темы добавлю от себя, что иное, потерявшееся со временем название для этой фигуры — бульвардье. Теперь оно, кажется, осталось только в названии классического коктейля с глубоким, чуть сладковатым вкусом одиночества. Изначально фланер — это тип наблюдателя, прогуливающегося по бульвару, и новизна его, собственно, не в типе поведения, но в его объекте. Он прогуливается по городу точно так же, как прогуливался по парку, наблюдая лишь не пропорции золотого сечения у растений, как это делал Гете, не те возвышенные метафоры, которые вдохновляли Мандельштама, а городскую жизнь.
Город, если это старый, средневековый по происхождению город,— жадная до внимания институция, он тебя постоянно рассматривает, предлагает себя, затягивает в двери, лавки, витрины. От него хочется немного отстраниться, я думаю, традиционные маски, вуали или их современный аналог, темные очки, защищают именно от этого легкого неприличия — жадного рассматривания в упор. Бульвар же создает пространственную фигуру остранения — это такая улица, по которой ты идешь внутри и одновременно в стороне от города. Ты рассматриваешь город как будто из парка, из-за деревьев, с высоты той античной традиции колоннад, которая их породила.
Урбанистика много думает о коммунальности горожанина, его принадлежности к сообществам, включенности в рынки социального капитала или здорового коллективизма (кому что нравится). Но город, помимо институтов коммунальности, порождает и множество институтов одиночества, он создает для этого специальные места, пространства рефлексии, поле "иного" в городе. Откуда ты можешь увидеть происходящее со стороны. Конечно, это поздняя конструкция сознания, соответствующая тому беспокойству "отчуждения" человека от Бытия, которая так волнует классическую европейскую философию. Но мне кажется замечательным, что европейский город создает для этого отчужденного специальную форму пребывания — бульвар.
В невключенности есть достоинство, а может, и известная позитивность. Однажды, кажется, в 2012 году, когда культура Москвы вышла из берегов, я имел беседу с вождем этого разлива Сергеем Капковым. Москвичи, если помните, тогда разгулялись по городу в оппозиционном смысле. Я обращал его внимание, что вот, они отправились вовсе не в приготовленный Парк культуры, а вместо революционного занятия центрального партера ЦПКиО имени Горького произошла романическая прогулка писателей во главе с Григорием Чхартишвили по бульварам и чуть диковатый для русского уха "Оккупай Абай". По моему мнению, это демонстрировало, что граждане не приняли капковские парки как "свое" пространство — они отправились туда, где было принято высказывать свое политическое недовольство еще с горбачевских времен.
Сергей Александрович отвечал в том смысле, что и слава богу. Это доказывало, что белоленточное движение, что бы там ни наговаривали недоброжелатели, нимало с ним не связано. Он был прав в этом, но, к сожалению, урбанистическое доказательство не было принято во внимание теми, кому положено. Что показывает, увы и ах, как у нас мало еще настоящих урбанистов в действующей власти. После отставки Капкова вопрос приобрел чисто академический характер. Но в таком качестве все же остался: почему именно бульвары остаются локусом выражения критической позиции? Мне кажется, для урбанистики это интересный вопрос.
Продолжение следует