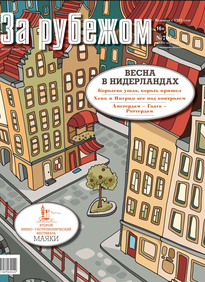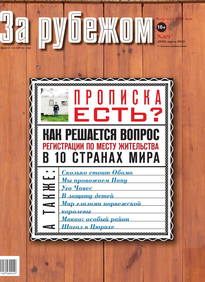Полковник в отставке Василий Степанович Карнаухов, для которого Великая Отечественная война началась под Москвой, а закончилась в Берлине, рассказал «За рубежом» о том, как это было, и о том, что, по его мнению, происходит сейчас.
Я до сих пор помню эту картину. Иркутск, 22 июня 1941 года, время к обеду, жаркий-жаркий день. Я учусь на третьем курса горного техникума, готовлюсь к экзаменам. Открывается дверь, входит мой двоюродный брат, на квартире которого я жил, и говорит: война, Германия на нас напала. Отбрасываю учебники — и бегом в общежитие техникума. Ребята в волейбол играют, я им кричу: война! Мы собрались в комнате, где было радио, а там повторяют речь Молотова. И мы, помнится, сразу заспорили, сколько нам недель понадобится, чтобы разбить Германию.
В тот день жуткая жара вдруг сменилась неистовой грозой, а перед закатом небо залило багровым. И старики сказали: к большой крови.
А назавтра все мы повалили в военкомат. Там еле от нас отбились: ждите, сказали, повестки, кого надо — призовут. Я продолжил учиться и в июне 42-го защитил диплом - нам сократили срок обучения в техникуме за счет упразднения производственной практики. Начал работать на шахте, и в ноябре пришла повестка. Из нашего города взяли человек 120. Привезли на сборный пункт, поместили в карантин. А карантин такой: земляной пол, нары в несколько рядов и уйма блох. Раньше я даже и не знал о существовании этих паршивых насекомых. И вот трое суток мы кормили блох, потом перевели нас в бараки и стали учить обращению с 45-миллиметровым противотанковым орудием. Тем самым, которое на фронте прозвали «Прощай, Родина!». Они стояли впереди пехоты, встречали вражеские танки. И вот эти пушки и их расчеты танки давили в первую очередь.
Питание было скудным — селедка и картошка. Меня хотели переобуть в ботинки с обмотками. Но намотать их не смог ни я, ни наш старшина — и мне разрешили донашивать валенки.
Месяц прошел — объявляют, кого направляют на фронт. А меня в списке нет: слишком молодой да с образованием — поедешь, говорят, в училище. А мне же обидно - как это так, ребята наши идут, а меня не берут? Кроме того, у меня отношение к службе особое: я никогда не хотел быть военным. Меня и с фронта потом в училище хотели отправить, я ни в какую. Комплекцией не вышел, да и жилки военной у меня нет.
И начал я ходить за командиром батареи — а он, между прочим, командиром-то стал недавно, до этого учителем школьным был — и канючить, чтобы взяли меня на фронт. И так ему надоел, что он не выдержал: иди, говорит, к писарю и скажи, что потерял красноармейскую книжку. Я так и сделал, а когда стали мне выписывать новую, прибавил себе год – был 1924 года рождения, стал 1923-го. Так и оказался на войне.
ЗАПАХ СГОРЕВШИХ ДЕРЕВЕНЬ
Перед Новым годом привезли нас на подмосковную станцию Шаховская, и оказалось, что орудия у нас не будет, а будет противотанковое ружье. Ночью пошли мы пешим маршем в район Гжатска — это 35 километров. Напарник мне попался высокий, и вся тяжесть ружья - на мне. Последние пять километров практически ползли, так было тяжело с непривычки. Пить хотелось страшно, а снег, как выяснилось, жажду не утоляет. Потом-то втянулись и до 50 километров за ночь проходили. Но все равно бывало очень трудно. Во время февральско-мартовского наступления мы были так измотаны, что многие мечтали о том, чтобы убило или ранило. Днем оттепель, обувь нам вовремя не сменили, ноги промокают, за ночь все смерзается. И так неделями…
Образование, кстати, опять сработало против меня — сделали помполитом, помощником заместителя командира по политической части. И тот меня стал нагружать пропагандистской литературой. Я первое время носил ее добросовестно, а потом старался по возможности избавляться от этого лишнего груза. Позже я радистом стал, но и рация ведь 16 кг весит, тоже не сахар.
Мне на всю жизнь запомнился отвратительный сладковато-приторный запах сгоревших деревень под Москвой. Занимаем мы деревню, там одни головешки и обгоревшие печи, а из лесов к нам бегут местные жители и кричат: где же вы были, раньше бы пришли - они бы не успели сжечь... Но через некоторое время — откуда только что бралось — половики русские тканые, на них хлеб и мясо для солдат. И постепенно наступало примирение.
О ПРИБАЛТИКЕ И ПРИБАЛТАХ
Так и прошел я до Смоленской области, а потом погрузили нас в вагоны, повезли в Великие Луки, а оттуда пешим маршем - до Невеля. Старую советскую границу переходили в районе Себежа. Бросилась в глаза резкая перемена: только что были грунтовые дороги, грязь по колено, хибарки вокруг, а перешли — все заасфальтировано вплоть до дорожек к скотному двору, добротные дома, крепкие хутора. Столыпин не зря экспериментировал в Литве с тамошней хуторской системой и хотел ее распространить на всю Россию. В памяти моей осталась такая картинка: пришли мы на один хутор, а там стоят два дюжих мужика, а между ними — женщина, которой они достают только до плеч.
С негативным отношением к нам местного населения Прибалтики лично я не сталкивался ни разу. Ну и мы все-таки шли не просто так, а с оружием. Да, бывало так: прихожу на хутор, а там слышен визг поросенка — наши ребята его приканчивают, к ужину готовятся. Так солдаты ведь практически во всех армиях одинаковы. Что им после боя нужно? Поесть и поспать.
Хочу добавить еще вот что. Мне позже довелось встретиться с прибалтами уже в Сибири, куда после войны в ходе раскулачивания сослали зажиточных латышей, литовцев и эстонцев. Поселок Касьяновка Иркутской области, где я работал на шахте, был, по сути, литовским. Работники они были хорошие, много зарабатывали, понастроили себе дома, завели хозяйство. Сказывалось то, что пожили при капитализме и приучились все делать сами и на совесть. И хоть органы за ними присматривали, жили они у нас, мне кажется, даже лучше, чем в Прибалтике. Но когда Хрущев разрешил прибалтам вернуться, все уехали, ни один не остался. Родина есть родина.
ОБ АТЕИСТАХ В ОКОПАХ
15 сентября 1943 года в районе Смоленска произошел со мной такой случай. Приходит радиограмма, надо передать ее командиру полка. Выскакиваю из укрытия, и тут рядом со мной разрывается мина. В меня впивается несколько мелких осколков, врач их вынимает, обрабатывает раны — и я снова в строю. А ребята, которые это видели, сказали мне потом: «Ну, Степан, жить тебе долго». И сколько таких случаев было, когда люди выживали, хотя должны были погибнуть, или, наоборот, умирали нелепейшей смертью... Кто-то меня, видимо, оберегал. Для чего-то я должен был дожить до таких лет. Знаете, я не верю в тех, кто не верит в бога. Сам много раз видел: когда прижимало, у самых неистовых атеистов рука сама начинала метаться — господи, пронеси! господи, пронеси! Ну а за что уцепиться в такую минуту?
«ТРОНЕШЬ – РУССКИХ ПОЗОВЕМ!»
Поляки нас встречали очень хорошо. Куда ни придешь — стоят с красными и бело-красными флажками, паненки-красавицы выбегают, обнимают и целуют солдат. В Польше я тоже лично не сталкивался с какими-либо эксцессами в отношении мирного населения. Слухи о таких фактах до нас доходили, и приказы по войскам были соответствующие. Когда мы стояли на Висле, поляки, воевавшие вместе с нами, пели частушки: «Нас не трогай — мы не тронем, тронешь — русских позовем!».
Вот к немцам они относились очень плохо. После войны многие немецкие военнопленные работали на восстановлении польских шахт в Силезии, я входил в комиссию, которая следила за тем, чтобы там не было злоупотреблений. Так вот, могу сказать, что фактов плохого отношения поляков к немцам мы выявили множество.
ТРУП ГЕББЕЛЬСА
Удивительное дело: в Германии у нас были невероятно ожесточенные бои, немцы бились отчаянно, столько товарищей наших погибло, но вот занимаем мы город какой-нибудь — и у местных жителей такое подобострастие на лицах написано... Как будто лучшие друзья к ним пришли! В истории про массовые изнасилования немецких женщин нашими бойцами я абсолютно не верю: за подобные проступки у нас сразу расстреливали. В полку, где я служил, таких эпизодов точно не было. Зато мне рассказывали, какой ужас творился в американской зоне оккупации — там прямо на улицах солдаты девушек хватали.
В начале мая комсорга нашего полка ранили, он оказался в госпитале, а меня назначили исполняющим его обязанности. И второго мая я должен был вручать бойцам комсомольские значки. Иду из политотдела со значками, а тишина в Берлине стоит исключительная. И мне вдруг по дороге попадается солдат, по возрасту значительно старше меня. И спрашивает: «Сынок, неужели мир?». Интонацию, с которой он произнес этот вопрос, трудно передать, но я ее запомнил на всю жизнь. В ней и жажда мира, и сомнение — целая гамма переживаний, понимаете...
В тот день командовавший обороной Берлина генерал Вейдлинг подписал капитуляцию своего гарнизона и сдался в плен. На улицы высыпало местное население, наши солдаты вышли из укрытий, а потом по городу повели бесконечные колонны пленных. И мирные жители вглядывались в эти колонны, а когда видели там кого-то своего, подбегали и узелки с едой передавали. Наша охрана на это не реагировала. А когда пленные все же закончились, мы увидели повозку, а в ней — обгоревший труп. Спрашиваем у возницы: кого везешь, солдат? Геббельса, отвечает. Мы подумали — шутит, расхохотались. А назавтра из газет узнали, что это и в самом деле был труп Геббельса. Вот Гитлера я не видел, только в имперской канцелярии побывал.
В МОСКВУ С ОДЕЯЛОМ
Война закончилась, а в июне приходит в часть телеграмма за подписью Булганина, он тогда был заместителем наркома обороны. И в соответствии с этой телеграммой меня переводят в Москву. Собрали меня мгновенно - все-таки сам заместитель Сталина написал! Причем проследили, чтобы я с собой ничего не увез, чтобы там за мародера не приняли. На вокзалах в Берлине, а потом в Варшаве я видел наших офицеров с чемоданами добра, причем мне кажется, что объем и количество чемоданов были прямо пропорциональны расстоянию от передовой до места, где человек служил. А я приехал в Москву с вещмешком, в котором лежало одно-единственное байковое одеяло. В столице получил я направление в Силезию, на восстановление польских шахт — снова сказалось мое горное образование. Именно там в октябре я и демобилизовался. И мне ведь там предлагали остаться в торгпредстве. А я по наивности, по глупости мальчишеской и говорю: с удовольствием останусь, только разрешите сперва в Сибирь съездить, мать повидать. Для них это, конечно, был несерьезный разговор, и поехал я домой насовсем. Приехал в родное Черемхово, зашел в тамошний вокзал, замызганный, с жульем шныряющим, и подумал: что ж я в торгпредстве-то не остался... Но что делать, прижился, начал работать, а потом из грязного, убогого шахтерского городка меня выдвинули в иркутский обком, а оттуда - в Москву, заведующим сектором Сибири отдела организационно-партийной работы ЦК.
«ЗА ЧТО?! ЗА ЧТО?!»
До полковника я дослужился уже на гражданке, не служа ни одного дня. А войну так и закончил рядовым. По-другому и быть не могло — у меня ведь отца забрали в ноябре 37-го, а в феврале 38-го, как я потом узнал, уже расстреляли. Жили мы тогда в плохонькой двухкомнатной квартирке, а после ареста отца нас переселили в комнату, где только кровать и можно было поставить. Так и спали поперек кровати — мать и мы, четверо ребятишек.
С этим пятном - «сын врага народа» - я прожил до 1956 года, до XX съезда. Но несмотря на это в партию меня приняли еще на фронте, как отличившегося в боях. И я до сих пор считаю, что из всех моих фронтовых наград самая высокая — это партбилет.
В то, что отец мой, который работал заведующим зернозаготовительным пунктом в одной деревушке, вредитель и контрреволюционер, я не верил ни минуты. Но то время я понимал и понимаю, и у меня никакого озлобления в отношении власти не возникло. Есть выражение: революции пожирают своих детей. Это же историческая закономерность - вспомните, после Французской революции какая мясорубка была. Вот и отец в такую мясорубку угодил.
Доклад Хрущева на XX съезде, как известно, был закрытым, но я к тому моменту уже в обкоме работал и, хоть текст нельзя было из здания выносить, потихоньку принес его домой и прочитал матери. Никогда не забуду, как она рыдала и только повторяла: «За что?! За что?!» Это я шибко умный, про революции рассуждаю, а она-то простая сибирская женщина. Неграмотная, без профессии, осталась одна с четырьмя детьми - и всех подняла на ноги! Перед такой матерью можно только преклоняться.
О НАШЕМ ВРЕМЕНИ
Мне то, что происходит сейчас, напоминает ту самую предвоенную обстановку. Тогда тоже все начиналось с локальных конфликтов. Зарываются правители. Американцы возомнили себя пупом земли, они думают, что им все позволено. А это до добра не доводит — ни отдельную личность, ни коллектив, ни государство. Нас весь капиталистический мир критиковал за коммунистическую идеологию. Но сейчас-то мы буржуазную политику проводим, точно такую же, как у них, даже хуже — а отношение к нам не изменилось. Потому что сильная и богатая Россия никому в мире не нужна. Правда, тут есть нюанс: как только государство становится сильным и богатым, у него появляется агрессия и стремление навязать другим свою волю.