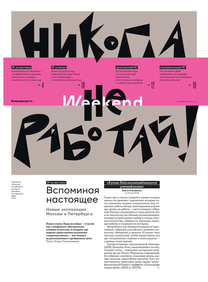Леонардо да Винчи придумал «науку видеть» — saper vedere. С тех пор появилось множество разнообразных руководств, как это делать. Эрнст Гомбрих написал книгу о том, как «уметь видеть» живопись, Бруно Дзеви — о том, как видеть архитектуру, Антонио Коста — о том, как видеть кино. Идея достаточно проста: чтобы получать удовольствие от произведений искусства, нужно иметь образованное зрение. Каждому, кто оказывался в одиночестве в незнакомом городе, ведомо состояние, когда ты совсем ничего не понимаешь — и это раздражает. Город не является произведением искусства в том смысле, что у него нет автора. Но, с другой стороны, это материя не менее сложная, чем кино или архитектура, а то, что она не так совершенна, что за ней — неосознанный опыт поколений, а не выверенный авторский жест, пожалуй, даже затрудняет восприятие. Город полезно уметь видеть, без этого от него трудно получать удовольствие. Иногда это касается даже родного города. Из чего состоит город? Что такое улица, переулок, площадь, бульвар, сквер, что такое зелень и вода в городе, как живет в городе власть, бизнес, культура, производство, торговля, как возникли кварталы и микрорайоны? Мы начинаем публиковать серию очерков по структуре городского пространства.
УЛИЦА
"Я видела его только однажды, на слушаниях... Он пришел ненадолго. Никому из нас не удалось выступить, потому что чиновникам всегда дают высказаться первыми, и они уходят, не выслушав людей. Он был в ярости. Он говорил: "Никто не имеет ничего против — никто, никто, никто, только эта кучка мамаш!!!"" Так Джейн Джекобс, едва ли не самая известная фигура "нового урбанизма", описывает свою встречу с "главным строителем" Америки Робертом Мозесом. Каждый, кто бывал на общественных слушаниях, легко узнает эту сцену.
Степень ярости Мозеса можно себе представить. Роберт Мозес к середине 1960-х провел в Нью-Йорке два ЭКСПО, создал десятки парков, построил мосты и хайвеи, каскад гидростанций, 10 больших открытых плавательных бассейнов и т.д. Джекобс была 50-летняя дама, мать двоих детей, журналистка-фрилансер, пишущая про городскую жизнь. Она разрушила планы человека, которого за 20 лет до описываемых событий не смог победить Франклин Рузвельт (президент хотел строить дороги, Мозес построил 16-километровую парковую зону на Лонг-Айленде). Думаю, с того времени знающие люди на слушаниях выставляют против профессионала, чей авторитет не подлежит сомнению, общественницу-интеллектуалку, мать двоих детей.
Мозес продвигал проект Lomex, магистраль, соединяющую Нью-Джерси с Лонг-Айлендом. Для этого требовалось снести 416 зданий, выселить 2200 семей, ликвидировать 365 магазинов и 480 мелких бизнесов. Джекобс подняла грандиозную волну, и, кстати, песню протеста для нее сочинил Боб Дилан.
Нельзя сказать, что Мозес был человеком Ле Корбюзье, а если бы им случилось поработать вместе, то скорее это Корбюзье стал бы человеком Мозеса. Но он был человеком поколения Ле Корбюзье. Его страсть к большим магистралям, модернистским небоскребам (ему Нью-Йорк обязан зданием ООН), общественным паркам, спортивным полям в городах — это все программа Корбюзье. Улицу оценило следующие поколение, люди 1968 года.
В том же 1969-м, когда мэр Нью-Йорка Джон Линдсей объявил, что проект Мозеса похоронен, Джо Дассен написал "Елисейские Поля". Саму улицу Елисейские Поля с ее титулом "la plus belle avenue du monde" в ее сегодняшнем виде создал в 1830-х годах граф Рамбюто. Со времен Луи-Филиппа, при котором он был префектом департамента Сены, до 1969-го прошло больше 100 лет. Не уверен, что их за это время никто не воспевал. Но с другой стороны, плохо представляю себе, как авангард или символизм вообще могли высказаться об улице в позитивном смысле. У Бодлера — "хрипела улица, миазмы источая..." У Маяковского — "Улица провалилась, как нос сифилитика..." Улица у них — мерзость, гниение, тьма, ад.
Поколение 1968 года разочаровалось в больших проектах большого бизнеса по технологическому преобразованию мира, но продолжало верить, что его можно преобразовать через ценности новых коммун и традиционных городских сообществ. Их левый идеализм, кстати, до сих пор окрашивает главные тезисы урбанистики. Но тут важнее другое. Улицы оценили тогда, когда их потеряли.
Если бы не скорострельная урбанизация, переселившая в города половину человечества, можно было бы назвать предшествующие 1968 году полвека крестовым походом против улиц. На самом деле улицы не столько уничтожали, сколько строили новые городские пространства без них — Москва без улиц ровно в 10 раз больше той, где улицы есть. Потому что если вы идете по улице, и слева у вас зелень с помойкой, гаражи и за ними железная дорога, а справа тоже зелень, за ней пустырь с дворовой спортплощадкой, потом опять зелень, а за ней — хрущевская пятиэтажка или брежневская девятиэтажка, и в 50 метрах от дороги налево-направо не то что ни одного магазина, кафе, ресторана, а просто ни одного строения — это не улица, хотя формально может называться Дорожной улицей или, например, Зеленоградской. Это сельская дорога, которая пролегает между полями свободных форм с панельным жильем на них.
Впрочем, и уничтожения тоже хватало — во Вторую мировую войну. "У Корбюзье то общее с люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы. Что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши",— российские архитекторы, в целом относящиеся к Бродскому с трепетом, свойственным любому советскому интеллигенту, эти строки ему простить не могут, тем более что Роттердам, которому они посвящены, для них является городом образцовым. Забавно, что эта мысль, которая кажется в России поэтически острой и парадоксальной, на Западе имеет статус едва ли не азбучной истины — в лекциях Спиро Костофа для студентов MIT "The City Assembled" ("Монтаж города") она повторяется раз пять, причем каждый раз как сама собой разумеющаяся.
Что касается Корбюзье, то он вполне разделял ту ненависть к улицам, которую испытывали и авангард, и символизм, и предшествующие художественные течения. "Улицы подобны траншеям, прорытым между семиэтажными стенами, за которыми скрыты темные душные колодцы дворов". Корбюзье здесь обличает традиционный город, апеллируя к комплексам поколения, пережившего окопы Первой мировой войны. Вместо этого он предлагал "большие блоки квартир, каждая из которых открыта свету и воздуху и смотрит не на хилые деревья наших сегодняшних бульваров, но на зеленые поля, спортивные площадки и обильные посадки деревьев". Я бы сказал, это и есть Дорожная улица в Москве, только у него эти блоки еще должны стоять на столбах, оставляя первый этаж открытым. Чтобы уж совсем никакой улицы не получалось, а был один простор.
Улицы-траншеи, по мнению Корбюзье, получились из-за дурацкого соединения в одном месте четырех функций — жилья, работы, отдыха и движения. Вдобавок они еще и были кривыми. Корбюзье называл их "дорогами ослов". Чтобы двигаться "дорогой людей", улицы следовало выпрямить, а функции — разделить. Жилые кварталы отделяются от деловых, движение осуществляется по дорогам, жилье отделено от дорог зеленым буфером. Торговлю и услуги он не считал функциями улицы, они отнесены в отдельные здания. Может, поэтому их никогда не хватало в советских микрорайонах.
То, что произошло, можно назвать индустриализацией городской жизни. Не в том смысле, что появились заводы. Как производство мебели, одежды, роскоши и т.д. в ХХ веке превратилось из ручного в заводское, так и город превратился в завод по производству жизни. И именно поэтому идеи Корбюзье победили во всем мире. Его талант, дух авангарда и т.д. при всем их значении не победили бы миллионы людей и не увлекли бы сотни правительств. Победила индустриализация жизни, миф мегамашины, как это определяли Эрих Фромм и Льюис Мамфорд, фабрика, позволившая переселить в города половину населения мира. Проблема в том, что этот завод умел производить только очень простые изделия на элементарных станках. А заработал тогда, когда предшествующее кустарное производство достигло шедеврального уровня — великих улиц второй половины XIX — начала ХХ века. В Европе не было таких улиц ни в эпоху готики, ни Ренессанса, ни барокко, ни даже классицизма. Но она к ним долго шла.
Их не было бы без ганзейских городов. Ганзейский союз, соединявший в XII-XVII веках города Северной Европы, создал городское торговое право, включавшее в себя в том числе и "ганзейский дом" — три окна по фасаду в ширину, три этажа, первый этаж — лавка, и даже если ты ничем не торгуешь, то это все равно помещение, куда может зайти человек с улицы (трактир, офис).
Их не было бы без Гранд-канала в Венеции. В этом городе вместо крепостей благородные семейства с XIII века строили дворцы с фасадами. Роль улиц здесь выполняют каналы (а все сухопутные улицы — это на самом деле переулки, где благородные люди не ходят), а канал — устройство, которое без крепостных стен обеспечивает защиту. Это дало старт ярмарке тщеславия — каждое благородное семейство Венеции ставило на Гранд-канале роскошный дворец, единственная функция которого — демонстрировать процветание. От Венеции эту идею переняла Генуя, потом Флоренция и Рим, а потом — вся остальная Европа. К торговой ганзейской улице добавилась улица людей благородного звания.
И европейской улицы не было бы без Французской революции, которая породила новый тип дома. До нее в одном доме могли жить или члены одной семьи, или братья по духу (монастырь, университет). Но революция объяснила, что в одном доме могут быть квартиры людей, не имеющих друг к другу отношения. Квартира может быть без выхода во двор и без террасы — квартиры требуют окон. К общественному первому этажу и благородному фасаду добавились большие окна и балконы, вместе это создало тип дома, который необходим для великих улиц XIX века.
Этих улиц не было бы без европейских шествий. Они начинаются как религиозные. Первым официальным европейским шествием по улицам было папское possesso. Великая французская революция перевела религиозные шествия в гражданские, оттуда идет традиция демонстраций. Но контрреволюция тут, пожалуй, даже важнее, и недаром лучшая европейская улица создана при Луи-Филиппе.
Это улица, масштаб, пафос, качество которой соответствует революции, но при этом созданная так, чтобы революции больше не было. Вместо революционного шествия по улице должны передвигаться "фланеры" — горожане, которые смотрят витрины магазинов, сидят в кафе, смотрят друг на друга и показывают себя — наслаждаются городской жизнью. Отсюда широкие гранитные тротуары, деревья, лавочки, цветы, отсюда уличные фонари, превращающие улицу в подобие зала для торжеств. Иначе — это улица для прохода праздного одинокого горожанина с пафосом государственного шествия, когда все достижения городской цивилизации работают на частного человека.
Разница между улицами Корбюзье и буржуазными улицами XIX века — это разница между механизмом и социальным институтом. Институт бесконечно сложнее, и его специфика в том, что он никем не придумывается и складывается веками. Улица — это институт равновесия интересов человека и общества, который поддерживает государство, тут масса интересов на одной площадке, и каждый выигрывает от столкновения с другими. Собственнику квартиры не нужно кафе на первом этаже и офис в соседнем доме, но цена его квартиры прямо зависит от того, есть ли кафе, а кафе прямо зависит от того, есть ли офис, а то, как они договорились, определяет качество тротуара на улице и место расположения парковки. В сущности, то невероятное упрощение, которое произвел Корбюзье,— это довольно грустная демонстрация поражения ума в столкновении с историей. История бесконечно сложнее, в ней больше логик, чем четыре функции улицы, которые он решил разделить. Он — едва ли не самый умный архитектор в ХХ веке — ничего не понял в улицах.
Проблема в том, что вся эта сложнейшая система, "балет улиц", как выражалась Джейн Джекобс, не работает без власти. Даже хуже — без доверия к власти. В истории европейских улиц полно случаев, когда власть ослабевает, и собственники начинают захватывать улицу — зданиями, пристройками, галереями, киосками, рекламой. Чем власть сильнее, тем улица шире. У нас власть так сильна, что в Москве, скажем, самые широкие улицы в Европе, но доверия к ней немного. И потому любые попытки власти улучшить улицы воспринимаются как наступление на права людей. Соответствующим образом они и реагируют.
Россия, возможно, самая пострадавшая от Корбюзье страна — улица как механизм внедрена во всех ее 1112 городах. Улицу как институт власть пытается пересадить в них сегодня. Нельзя сказать, что это вполне удается. Но не факт, что все провалится. Нет, наверное, ни одного историка, который высоко оценил бы правление Луи-Филиппа. Нет, наверное, ни одного урбаниста, который не видел бы достоинств Champs-Elysees.
Продолжение следует