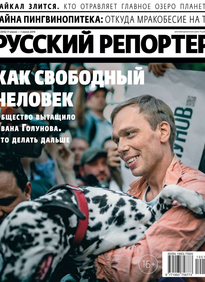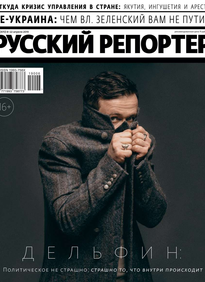В конце августа перемирие в Донбассе было практически отменено. Это произошло после попытки переговоров 21 июля об отводе артиллерии калибром до 100 мм — попытки, сорвавшейся по инициативе украинской стороны. Накануне срыва ДНР и ЛНР пытались в одностороннем порядке отвести орудия — что, впрочем, привело лишь к росту обстрелов. Пик интенсивности бомбежек пришелся на 15–17 августа, причем начала работать и крупная артиллерия, запрещенная Минском. В эти дни погибли люди в постоянно обстреливаемой Горловке, в опасных районах Донецка, а также, после большого перерыва, и по другую сторону линии разграничения — в пригороде Мариуполя Сартане. К счастью, большой войны пока не началось. Но есть места, в которых перемирия и не ощущалось.
Чайник вот-вот закипит на плите. «Ци-фи, ци-фи», — поет кенар на подоконнике.
Наталья подходит к окну. С десятого этажа ближе всего — облака. Бесформенные и светящиеся, они медленно плывут над Путиловкой, микрорайоном Донецка, прилегающим к разгромленному аэропорту.
Чайник закипает свистящей трелью из носика. Кенар подпевает ему. Сегодня утром он выдал довоенную программу — песню из пятнадцати колен. Несколько месяцев назад, вернувшись из Крыма, Наталья придумала примету: вот начнет Пиня исполнять довоенное, значит, быть в тот день добру. Пиня начал.
На самом горизонте, правее от подъемного крана появляется черная тучка — сбивают беспилотник. Внизу за углом работает продуктовый магазин. Над ним — деревья с поломанными верхушками. Стекла в магазине меняли раз десять за год, а продавщиц на районе прозвали «камикадзе». Рядом шахта Засядько. До войны шахтеры, поднявшись из-под земли после смены, пили пиво возле «Босфора» — еще одного продуктового магазина. Теперь он не работает. На всю Путиловку продуктовых осталось три — со своей сменой камикадзе. И Путиловского рынка больше нет. На его месте — черное, разбитое и сгоревшее.
Наталья наливает чай в черно-желтую кружку. Садится за стол и поворачивается к окну. Черная тучка возле подъемного крана уже рассеялась. На столе — варенье, сахар и мед из Крыма. Наталья родилась в Ялте. Она знала всех продавцов Путиловского рынка в лицо, как знают родню или соседей. Во время бомбежки кто-то из них погиб. И Наталья, узнав об этом, вернулась.
— Отдавать долг городу, который меня принял двадцать лет назад, — говорит она.
Утром Наталья отвезла гуманитарную помощь в Октябрьский. Ее вишневого цвета машина проезжала по узким, тонущим в зелени улицам мимо заборов, заглянув в пробоины которых можно было увидеть весь двор. Мимо надписи на стене — «Держись, Шахтер!» Мимо стариков, сидящих на скамейках у подъездов многоэтажных домов. Наталья передавала в морщинистые руки коробки с едой, таким образом возвращая долг своему городу.
***
Постороннему взгляду этого не заметить, но здесь, на Путиловке, люди не разговаривают на улице по мобильным телефонам. Они прислушиваются — летит или нет? Нормальный путиловец всегда на стреме, на улице задействован не только его слух, но и зрение: куда б упасть, если прилетит? Путиловец легко определяет, с каким знаком летит — с плюсом или минусом. Плюс — это входящий, минус — исходящий. И если разбить траекторию полета на колена, то в плюсе слышнее заключительные аккорды, а в минусе — вступительные. Если колена, то есть интервал между залпом и прилетом, коротки, значит, танки стоят близко к тому месту, где ты.
Огненные оркестры, как правило, разворачиваются над Путиловкой ближе к вечеру, и увертюрой становится гудение танка. Значит, он прогревается. Значит, он едет. Едет сюда — стрелять. Ни один путиловец не перепутает танк с «Градом». Даже дети с Путиловки знают, что «Град» уходит пакетом — тж-тж-тж, — а по небу в это время несутся огненные стрелы.
— Мы не можем изменить эту ситуацию, — говорит Наталья, снова подходя к окну. Еще недолго, и солнце начнет садиться. — И мы вклиниваемся в нее. Люди как тараканы… — продолжает она, глядя вниз. — А те, кто стреляют, просто уроды и нелюди.
— Как вы здесь живете?! — спрашивают ее приезжающие таксисты. — Вы хотя бы не на десятом этаже живете? На десятом? У вас окна хотя бы не выходят на аэропорт? Все три! Ну вы даете…
Снизу, откуда-то справа, доносится стрекот пулемета. Мешаясь с детскими голосами, он звучит не звонко. Кажется, пули попадают в глухую резиновую стену. Пиня поет громче.
— Мозг у него с какашку, а столько радости от него, — говорит Наталья. — Оставшись дома один, он тоскует. Не знаю, какой орган у него отвечает за тоску, мозг-какашка или маленькая желтая душонка.
В холле свалены пакеты с одеждой для нуждающихся. Стоят коробки с едой, купленной по оптовым ценам. В комнатах на кремовых стенах фотографии и сувениры из Крыма. На полках — веточки засушенной лаванды в вазочках и бутылках. «Лаванда» — так называется магазин белья, который Наталья только что открыла прямо на площади Ленина под Министерством угля. Его вывеска лавандового цвета. На столиках внутри — маленькие букеты лаванды. На вешалках разноцветные трусы и лифчики.
— С бельем мы влезли в нишу, которая освободилась в Донецке, когда началась война, — говорит Наталья. — Новое белье у дончанок через год войны закончилось. Через блокаду оно просачивается с трудом. А в Донецке остались женщины. Многие уехали, но настоящие остались. А настоящая женщина знает — после обстрела можно остаться без головы, но обязательно в красивых трусах… Первая поставка была очень сложной — из Киева в Артемовск, через блокпосты ВСУ, — продолжает она. — Трусы были распиханы по сумкам и переложены вещами. И тут… я отклеила этикетку и увидела, что белье производится в Луганске. А мы везли их из Киева! Я съездила в Луганск, оказалось, что цех по-прежнему работает. Вернулась оттуда с мешком труселей. Думала — как объяснять на блокпостах, что везу? У меня есть удостоверение гуманитарщика, но трусы — явно не гуманитарка. Но никто ничего не спрашивал.
***
Наталья выходит на балкон. Те же облака совершают медленное путешествие над зелеными терриконами, с крыш пятиэтажек заглядывают сюда наверх тарелки антенн. Хорошо видны окна квартир, в которых еще живут — они заклеены крест-накрест белыми бумажными полосками. Чернеют окна лестничных пролетов, и, кажется, там внутри роится, как живая, угольная пыль, прилетевшая с находящейся неподалеку шахты Засядько. По воздуху, минуя черные провода, натянутые между крышами домов, поднимается пушинка, которая весит, наверное, столько же, сколько душа Пини.
Пятнадцать лет назад Наталья вышла на этот балкон, посмотрела с него не вниз, а вверх и сказала мужу, что хочет жить именно здесь, на Путиловке.
— Люди могут быть счастливы везде, — говорит она. — И даже в этих многоэтажных домах. И даже во время обстрела. Жить во время войны вообще не правильно. Но мы-то живем. Мы-то не поумирали… Думаете, я не понимаю, что дома вокруг обшарпаны? Думаете, терриконы меня не раздражают? Меня — крымчанку? Но я вижу подъемные колеса шахты — их в детстве любил мой ребенок. Вижу дымящую трубу — значит, шахта работает. И мне нравится, как по ночам светится «Донбасс-арена».
«Ци-фи» проносится по квартире, сквозняк задевает деревянные ветряные колокольчики, висящие у входа на балкон. Их древесный шепот уходит на кухню. С той стороны уже закат. Сильный луч солнца пробивает стеклянный шар, стоящий у балкона на столе. В шаре — горе золотых монет. И когда луч внедряется глубже, начинается казаться, что там, в шаре — волшебный город, в котором угольная пыль превратилась в золотой песок.
— Боже… как я люблю этот город, — без эмоций говорит Наталья. — И как хорошо падает свет, когда тихо… Донецк — сильный. Большое раненое животное. Мой город… Людям сейчас можно помочь — привезти еды, обогреть добрым словом. Но как помочь городу, когда в него летит и летит? Он сопротивляется, он борется, и мы боремся вместе с ним… Когда все закончится, мы будем его чинить… И это будет не возвращением долга, а выражением любви.
Увертюры стрелковых сменяются тяжелыми раскатами. Пиня умолкает. Из кухни звучит только радио.
— Звуки злого железа, — говорит Наталья, отворачиваясь от окна. — Они приходят из другого пространства, эти звуки неправильные. Это знает каждый, кто держал в руках осколки снарядов.
***
Она возвращается в кухню. Раздается длинный бах. «Это — танк», — комментирует Наталья. В небе стучит «бум-бум». «А это — пушка». Трум-туру-рум — пулеметные очереди перестают быть глухими и агрессивно пробиваются в интервалах между тяжелыми орудиями.
Наталья выглядывает в окно — так поступает каждый нормальный путиловец, как только начинается обстрел. Внизу на скамейке под развесистым деревом большая группа пенсионеров лузгает семечки. Очередной разрыв словно раскрывает над ними гигантский зонтик.
— Соседи любимые, — нежно говорит Наталья.
Она раскладывает на столе документы и кошельки, они должны лежать так, чтобы их можно было сгрести в сумку одним движением руки, когда придется бежать из квартиры. Рука будет дрожать, но не синхронно с мозгом. Тот будет работать четко, в штатном режиме.
— А если б рука не тряслась, это был бы уже совершенный беспредел со стороны организма, — говорит она.
Идет бой, совпавший с закатом. Пиня молчит, нахохлившись. Солнце, обведенное красной радужкой, пульсирует над Путиловкой. Какой-то снаряд со свистом приземляется неподалеку. Соседи сбегают в подъезд.
— Закат еще не раскачался, — произносит Наталья. — А раньше закаты были вообще сумасшедшие — когда предприятия еще работали, он проходил через всю таблицу Менделеева… Крыша розовая, — она смотрит на домик с цветной крыше, утопающий в зелени далеко внизу. — За ней — прямой прилет. А там в кустиках прячется дом моего хорошего знакомого. Тоже прямое. Выгорел полностью, только стены остались. Сразу видно, где живут люди, а где — нет. Вон в том доме бабушка в одиночку вспахала весь огород, засадила, все это выросло, скоро урожай. Тут живут, — ее палец стучит по стеклу, указывая на крыши домиков. — Тут… А там уехали. И там уехали. А вон там в домике с зеленой крышей каждый вечер зажигался свет, и я долго верила, что там есть люди, пока не поняла, что это просто фотоэлемент.
На небе вступают в силу краски. Облака темнеют и желтеют. Звук выстрела тянется долго, кажется, наматывая на себя душу всего живого, находящегося в радиусе поражения. Контуженные птицы снижаются, переворачиваясь в воздухе. До войны на Путиловке было много голубятен.
Пиня спрыгивает с жердочки, и та, качаясь, бьется о круглое зеркальце. Концентрированное солнце отражается в нем, расшвыривая по стенам золотые монеты. Когда квартира на десятом этаже окончательно утратит центр тяжести, Наталья напишет в фейсбуке: «Фу! Опять какая-то гадость полетела!» Ей ответят жители Киевского и Петровки. Затем она пойдет фасовать трусы — разноцветные, кружевные. А утром снова повезет гуманитарку в Октябрьский.
***
Огромные окна без занавесок показывают цветы — пионы, гвоздики, васильки. Они в изобилии растут во дворе. Они отражаются в полированной поверхности стола, стоящего в зале у окна. И в глянцевом животе маленького Будды, сидящего на тумбе. Этот дом похож на аквариум — стекла в нем больше, чем бетона. До донецкого аэропорта — полтора километра. Здесь — линия фронта.
В дом возвращается хозяйка Светлана. Она ходила на соседнюю улицу кормить пожилого отца. Следом показывается ее муж Саша, высокий, худой, белобородый, с серо-голубыми глазами. Позади дома — кладбище. За год войны на него упало несколько сотен снарядов.
Семья собирается за столом: Светлана, ее муж Саша и дочь Аня. Все трое похожи, как могут быть похожи люди одной породы. У стола кружит, выпрашивая печенье, хаски Сет.
— Он вроде все понимает… да, понимает, — говорит Светлана в телефон. Она разговаривает с врачом об отце. — Иногда он возвращается в реальную жизнь. Я не знаю, что может вызвать в нем агрессию. Иногда он агрессивен… Он уходит на кладбище искать детей. Я не знаю каких…
— Когда Аня только родилась… — Светлана делает паузу. Из колонок музыкального центра поет ласковый мужской английский. — Мне сообщили, что у мужа онкология. Наши светила дали ему восемь месяцев, — говорит она, заставляя засомневаться в том, что Аня, так похожая на Сашу, — его дочь. — Наши совместные усилия позволили ему прожить еще два года, — произносит она и становится ясно: Аня — не дочь Саши. — Двадцать второго марта Володя умер. Тридцать первого марта мне исполнилось двадцать пять лет. А в январе у Саши умерла жена.
— Светлана была беременна третьим ребенком, — теперь говорит Саша. Ясно: его первую жену звали так же, как и вторую. — Малышка тоже погибла.
— Есть у врачей такой термин, — в голосе живой Светланы отчетливо слышна трещина, — «внезапная остановка сердца». Причем в четверг ее отправили в декрет, сказали, что все хорошо, — продолжает она так, словно была свидетельницей тех событий. — А с пятницы на субботу ее не стало.
— На моих глазах, — помогает истории Саша. — Она хватала ртом воздух, ее сердце уже остановилось, а дыхательная система еще работала. Это было зимой. Без пятнадцати семь. Я, глядя на это, вскочил и позвал соседку-врача. Пришла ее дочь-медсестра. Увидев эту картину, она замерла в дверях. «Ира, делай что-нибудь!» А ее саму спасать надо… Но это все быстро закончилось. Я спрашивал потом у человека со скорой: «Можно было спасти?» — «Нет, это бесполезно». Ребенку было семь месяцев. Он, полностью сформировавшийся, лежал рядом со Светланой в гробу. Его из нее вынули.
— А боль притупляется, — говорит Светлана. — Вот получается: сколько с тех пор прошло? Тогда был восемьдесят восьмой, сейчас — две тысячи пятнадцатый. Двадцать семь лет… Но если кто-то попросит меня поэтапно описать, как умирал муж, я все расскажу. Это не забудется никогда. На моих руках умерли три человека — близких и родных. Наверное, с мамой сердце так не рвалось уже… Но когда умирала сестра Наташа… Ей было всего сорок три года. Я знаю только одно: я старалась помочь, я до конца боролась. Хотя все знали, что уже поздно… Отец в это время сидел безучастный. Он ничего не делал. И на кладбище пошел с нами безучастный. Но я-то знала, что он не безучастен. Мама тогда еще ходила, но ничего уже не видела. Она давно ослепла — пятнадцать лет назад… Только недавно мы поняли, почему она так не хотела отсюда уезжать: она знала в своем доме все — где что лежит. Она ходила по памяти. Но умерла Наташа, и мама перестала ходить…
***
Солнце садится, ненадолго заливая желтым светом весь дом. Широкие кровати на втором этаже, живые орхидеи на тумбочках, плюшевые игрушки, ожидающие своих повзрослевших хозяек. За терриконом сверкает вспышка. Раздаются хлопки. Сумерки наступают быстро. О скоротечном закате напоминает лишь красная полоска, очертившая горизонт.
— О существовании друг друга мы знали всю жизнь, — говорит Светлана, не обращая внимания на звуки за окном. Стекла, стянутые за ее спиной крестами, дребезжат. — Сашин двоюродный брат женат на моей подруге, а семья подруги дружит с нашей уже в третьем поколении. Дружили еще наши бабушки. Подруга сказала: «Вы с Сашей должны быть вместе». А Наташа сказала: «Саша — единственный человек, которому я могу тебя доверить».
— Ну давай тогда все выкладывай, — смеясь, произносит Саша.
— Они все хитро придумали, — оживляется Светлана, и воспоминания ненадолго смягчают ее голос. — Родители уехали в деревню и забрали с собой Аню. А я должна была выйти на работу во вторую смену. Они приехали с Сашей под предлогом того, что моя мама просила рецепт какого-то пирога … Я тогда не запомнила Сашиного лица, но я четко помню одно: в наши ворота заходит мужчина в белых льняных отутюженных брюках, в белой рубашке, в белых носочках и в чистейших белых сандалиях.
— Босоножках, — поправляет ее Саша.
— И стоит он весь белый, а вокруг него — просто теплое облако… И мне очень-очень захотелось туда. А его дочь двухлетняя Маринка, она летит в это время с бугра с белыми бантами на голове, с огромными карими глазами и кричит мне: «Мама, где ты так долго была?!» Эти слова решили все…
— Детям видней, — вставляет Аня.
— Когда в жизни уже была потеря и ты знаешь, что все можно потерять, второй шанс ценишь еще больше, — говорит Светлана.
— И тогда наши мечты объединились в этом доме, — говорит Саша, и его слова, несмотря на то что произнесены они мягко, как будто подводят черту под незаданным вопросом — почему они не уезжают из этого дома, расположенного на самой линии фронта.
— Говорят, Маринка очень на меня похожа, — произносит Светлана.
***
Саша берет из тарелки черный крыжовник. Где-то близко на большой скорости проносится автобус.
— Шахтеры едут со смены, — замечает Саша. — Две недели назад они — семьсот человек — остались под землей, когда снаряд попал в ствол шахты.
— Это здесь на кладбище ребята с Засядько похоронены, — говорит Аня, имея в виду взрыв метана, произошедший на шахте в прошлом году. — Мы когда Наташу хоронили, там целый квадрат был пустой. А когда бабушку, он уже весь был занят — шахтерами, — заканчивает Аня, и из ее слов слышится: смерть Наташи как будто стала тем толчком, который погрузил эту землю в войну.
— Девятого декабря здесь обстрел был сильный, — начинает Светлана, — папа сильно испугался за маму — она ведь слепая, ничего не видит. Бросился к ней со своей кровати и упал. Мама услышала, как он падает, и испугалась за папу. От испуга получила микроинсульт, и он стал толчком к ее смерти. После этого она прожила еще несколько месяцев.
Вчера дед, отработавший несколько десятилетий инженером-механиком на заводе, отправился к ночи на кладбище.
— Ты куда?! Там обстрел! — пыталась остановить его Марина, та самая повзрослевшая девочка с бантами, летевшая с бугра. Теперь она живет в соседнем доме с дедом, отцом Светланы.
— Я сам знаю куда! Там дети! — агрессивно ответил он. И ушел.
Марина позвонила Ане. Аня взяла фонарик и отправилась на кладбище.
— Потому что надо идти, — говорит она. — Родной человек.
Дедушка, как обычно, сидел возле жены и дочки. Рядом высились свежие могилы шахтеров. «Вставайте! — требовал он. — Вставайте!»
— Скорее всего, он ищет Марину с Юлей, — говорит Светлана, имея в виду живых дочерей Саши. — Он хотел, чтобы я во второй раз вышла замуж за сына его знакомого. Однажды я подслушала его разговор с мамой, он говорил: «Алла, как ты можешь? Твоей дочке всего двадцать пять, а вы ей на шею хотите двух чужих детей повесить!» Мама говорила: «Дети скоро вырастут. Все будет хорошо. Разве мы с тобой их не прокормим?» Потом Аня, Марина и Юля, все трое, росли в доме у моего папы… Я на него даже сейчас не злюсь. Мы просто выходим его искать. А как иначе? Он — отец, которому я обязана жизнью, тем, что я вообще живу на этой земле.
***
Эта земля содрогается — снаряды летят из-за террикона и проносятся высоко над домом.
— Это — от нас, — произносит Аня. — Гаубица. Это наши первыми огрызаются, чтобы снаряды со Спартака не полетели в город.
— Вампиры проснулись, — флегматично замечает Саша. — Как вечер, у них сразу начинается.
— Это не страшно, — говорит Аня. — Страшнее будет, если ответка полетит в нас.
— Мы окна делали под заказ, — говорит Светлана, а дрожащие окна, закрашенные с той стороны темнотой, рябят отражающуюся в них семью и стол. — Мы очень любим природу и красоту. Но мы не нашли фасадных окон в Донецке. Нас спрашивали: «Зачем вам такие окна нужны?!» …Это упало сейчас? — прислушивается она к звуку за окном.
— Это прилет, — отвечает Аня.
— Я знаю, что со мной и с моими детьми ничего не случится, — говорит Светлана. — Этот дом смешан с нашей кровью и потом, мы тут пахали все. Сами вязали арматуру проволокой. И что я должна? Оставить свой дом, чтобы тут жил какой-то украинец? Хотя мы с Аней в паспорте тоже украинками записаны. А Саша с дочками — русскими. Значит, я должна бросить свой дом и убежать? — спрашивает она, и дом вздрагивает, словно испугавшись такой перспективы.
Снаружи приходит хлесткий и острый звук, кажется, будто кто-то огромный стегает землю плеткой.
— Девчонки, быстро под лестницу! — командует Саша. — Это рядом! Это рядом упало!
Сбоку лестница огорожена мешками с песком. Подвала в доме нет. Аня и Светлана садятся на пол, прислонившись спиной к несущей стене. Саша читает вслух сводки:
— На Артема попадание. Артема, 108, прилет. Это район областной травматологии. Университетская — 65, 75, 76. Прилеты. Тут написано, что минометы со Спартака и Авдеевки бахают. Попали в подстанцию. Они пишут… — в голосе Саши слышится удивление, — они пишут, что объявлен отвод тяжелых вооружений! Это они… вооружения так отводят. Значит, танки совсем рядом стоят.
Отключается электричество. Дом погружается в полную тьму.
— Сюда не прилетит, сюда не прилетит, — повторяет Светлана, и ее слова мешаются с учащенным дыханием собаки…
***
Стена нагревается. Саша водит фонариком по противоположной стене. Белый луч натыкается на картину и, словно споткнувшись, останавливается. На черном фоне дома, слившегося с ночью, в белом пятне показывается фиолетовый ствол дерева, красный песок, белая нога девушки. Рерих: «Молчание. Тишина». Луч медленно скользит по черной вытянутой спине буйвола, и его движение совпадает с тихим свистом, который несется в сторону дома. Спина буйвола заканчивается, снаряд падает за домом. Луч останавливается на белой собаке, сидящей в противоположном углу картины. Сет, сидящий в ногах у Ани, вздрагивает. Фонарик гаснет. Приближается свист, и кажется, что ему навстречу распахива-ются сердца всех сидящих под лестницей.
— Ой-ой-ой, — говорит Аня. — Свистит. Это в нас летит.
Снаряд хлещет землю за домом.
— Пролетел, — в голосе Саши слышен тихий подъем. — Он пролетел мимо нас!
Свист. «Капец…» — слышится из-под лестницы. Падает за домом. Свист. «Капец…» Падает за домом.
— А в Париже мы еще не были, — после продолжительного молчания произносит Светлана. — А в Риме были. Еще когда училась в школе, мне так хотелось попасть в Колизей. Потрогать его стены. Мне кажется, они — живые. И эти стены живые, — говорит она о стенах своего дома. — Они нас чувствуют. Все — живое. И цветы живые. Им тоже страшно. В этом году они выросли маленькими.
***
Орудия схлестываются с обеих сторон. На огромной скорости по дороге у дома проносится автобус, везущий шахтеров на смену.
— Если они и дальше будут так отводить орудия, — с иронией замечает Саша, — то скоро они со своими орудиями будут сидеть у нас в огороде. И это — очередной шаг к миру…
— А это в поля падает, в речку, — бубнит Аня. — А это — опять в нас летит. Что это?! Это опять сюда! …Капец.
— Даже Lifenews уже не пишет об обстрелах, — произносит Саша. — Им надоело. Никому это уже не интересно. Следующий дом будем строить под землей…
— Я никогда не представляю себе тех, кто стреляет, — говорит Светлана, и в ее голосе слышнее надтреснутый хрип. — Я никогда не задумывалась о том, что это, может быть, в нас какой-то украинец из Львова стреляет. Я думаю только о том, что страшно, что может прилететь. Ему просто нас нарисовали такими, и он думает, что действительно надо спасать от нас страну… Ближе?!
— Это в нас.
— Все, девочки, все… Мирные соглашения закончились.
Дом трясется. Дом дергается. Дом словно хочет убежать туда, где мирные соглашения еще в силе. Но его держит корень, крепкий от того, что он полит кровью и потом людей. И когда к середине ночи орудия не умолкают, а, наоборот, зайдя на второй круг, устраивают на земле невиданную свистопляску, из-под лестницы доносится голос Ани: «Если кто-то думает, что я должна бросить свой дом, то он ошибается! Мы не уйдем!» Она произносит эти слова спокойно и отчетливо, как будто желая, чтобы их услышал именно он — Дом.