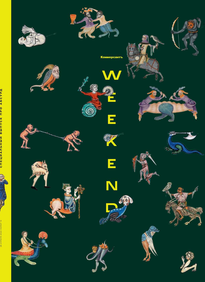600 лет назад, 6 июля 1415 года, был казнен Ян Гус — идеолог чешской Реформации, признанный католической церковью ересиархом. Сергей Ходнев рассказывает, как из вдохновителя антикатолических войн Ян Гус превратился в носителя специальной славянской духовности
Мы довольно отчетливо, чуть ли не по минутам, знаем, как все происходило в Констанце 6 июля 1415 года. В том виде, как эти события описаны частью очевидцами, частью более поздними почитателями казненного, они составляют, безусловно, одну из образцовых сцен мученичества в мировой истории. Где-то на уровне смерти Сократа — хотя, как справедливо заметил по этому поводу Вольтер, афиняне, осудившие своего мудреца на безболезненную смерть от цикуты, выглядят как-то пристойнее, чем те, кто отправили Яна Гуса гореть заживо. И вместо возвышенного умирания, описанного в платоновском "Федоне", устроили в Констанце жуткий спектакль, подробности которого смаковала и всегда будет смаковать любая антикатолическая пропаганда.
Утром великий сонм собравшегося в городе духовенства отстоял торжественную мессу в соборе, за которой прозвучала длинная и пламенная проповедь о необходимости искоренять ересь. После этого все вышли на площадь; Гуса, одетого в полное священническое облачение и держащего в руках потир, еще раз — в последний раз — спросили, согласен ли он отречься от своих заблуждений. Тот еще раз — в последний раз — отказался, да еще снова упрекнул присутствовавшего тут же императора Сигизмунда, пообещавшего Гусу охранную грамоту, но отказавшегося защищать его во время процесса. Кесарь, говорят, покраснел. (Во всяком случае, сто с гаком лет спустя император Карл V, который оказался в весьма похожей ситуации с Лютером, говорил, что не отправит мятежного августинца на костер, потому что, дескать, не хочет краснеть, как Сигизмунд.)
После чего семеро епископов совершили над осужденным мрачный обряд "деградации", извержения из сана: с него поочередно снимали детали священнического облачения, всякий раз зачитывая по требнику проклятия, и в конце концов, назвав преступника Иудой, предали его, на свой лад исполняя заповедь апостола Павла, сатане во измождение плоти. Самое занятное, что мы даже не обязательно должны подозревать этих прелатов в личной ненависти к Гусу. Они делали свое дело, причем более или менее рутинное. Такова была процедура. Ну нельзя было казнить священника, не лишенного сана. (Почему-то вспоминается история из времен позднего Тиберия: когда всесильного временщика Сеяна обвинили в заговоре, вместе с ним, уж конечно, истребили все его семейство. Включая малолетнюю дочь, которую вообще-то нельзя было казнить, потому что закон воспрещал предавать смерти девственниц. Dura lex, ничего не поделаешь, так что палач сначала изнасиловал десятилетнюю девочку, а только потом задушил.)
Покончив с этим, преступника, с которым церковная власть уже сделала все, что смогла, отдали в руки светской власти, надев ему на голову колпак с надписью "ересиарх". При этом могла прозвучать просьба не калечить осужденного и не проливать его кровь, могла и не прозвучать (тут показания расходятся), но исход был очевиден. Нераскаянный еретик — а именно таким его не мог не признать по всей форме церковный суд — по светскому законодательству подлежал сожжению. Гуса вывели за город, привязали к столбу, обложили дровами и вязанками хвороста почти до подбородка и сожгли. История о старушке, которая подложила в костер немножко хвороста, в ответ на что Гус горько усмехнулся со словами "святая простота!",— скорее всего, позднейший анекдот. Очевидцы отмечают другие вещи, когда значимые, когда не очень. К примеру, перед казнью Гус поблагодарил своих тюремщиков за доброту, а умер с именем Христа на устах. Быстро умер, уточняют некоторые, да вот только запах стоял невыносимый, потому что ровно под костром накануне закопали околевшего мула кого-то из кардиналов. Чувствуется, что публичное сожжение живого человека для этих людей было ненамного более драматичной вещью, чем какая-нибудь сильная гроза. Вряд ли это их вина — такой век, такие сердца, и сам Гус в одном из писем мимоходом упоминает о торговце, которого давеча сожгли за подделку шафрана. Хотя, казалось бы, где базарный мухлеж и где деяния еретика, да, но духовного лидера целой нации.
Сказать, что смерть Гуса взбудоражила Богемию, значит не сказать ничего: двадцать лет его последователи, взявшиеся за оружие, наводили страх на всю Европу
Вообще, для отцов Вселенского собора в Констанце дело Гуса (равно как и его сподвижника Иеронима Пражского, казненного в следующем году) было всего-то эпизодом. Даже, может быть, досадной помехой посреди куда более важных занятий. Дело в том, что в момент казни Гуса католическую церковь никто не возглавлял. Или, если угодно, у нее было три главы сразу — и все нелегитимные.
Церковь раскололась после того, как Григорий XI решил вернуть папский престол из Авиньона в Рим. Его преемник не устроил кардиналов, которые предпочли избрать альтернативного папу и вернуться во Францию. Тридцать лет на трон св. Петра претендовали и папы авиньонские, и папы римские, осыпавшие друг друга анафемами (страны Европы признавали кто тех, кто других); в 1409 году, чтобы прекратить это безобразие, в Пизе собрался собор, выбравший еще одного папу, так что претендентов стало трое. В 1415-м это были Григорий XII ("римский"), Бенедикт XIII ("авиньонский") и Иоанн XXIII ("пизанский"). Констанцский собор объявил всех троих низложенными. А потом, уже два года спустя после казни Гуса, выбрал нового понтифика, единого для всего католического мира,— и в конечном счете проблему решил. Но очевидно, что даже помимо пламенной деятельности Гуса престиж официальной католической церкви в тот момент и так выглядел плачевно.
Сказать, что смерть Гуса взбудоражила Богемию, значит не сказать ничего: двадцать лет его последователи, взявшиеся за оружие, наводили страх на всю Европу. Против них снарядили пять крестовых походов, и даже Жанна д'Арк, которая еще не знала, разумеется, что и ее тоже ждет торжественное обвинение в ереси и костер, написала буйным богемским еретикам угрожающее письмо — мол, я немного занята с англичанами, но дайте срок, приду и накажу вас, если не одумаетесь. Но все вотще — только уступки очередного церковного собора (на этот раз в Базеле) прекратили кровопролитие. Причем надолго, до XVII века, когда в ходе Тридцатилетней войны с духовными наследниками гуситов сделали нечто такое, что в терминах более современной общественно-политической мысли называется "намотать кишки на танковые гусеницы".
Это все вещи известные, но удивительны превратности дальнейшей посмертной судьбы Яна Гуса. Довольно долго казалось, что почитают его разве что немецкие протестанты, что в самой Богемии его почитание извели под корень, предложив взамен вежливый барочный культ св. Иоанна Непомука (тоже Ян, тоже мученически погиб, да еще примерно в ту же эпоху). Но после "весны народов", когда национальное самосознание начало поднимать голову по всей Европе, в габсбургской Чехии просто не могли найти лучшее знамя для борьбы против австрийской гегемонии, чем персона Гуса.
И то сказать, против немецкого преобладания тот действительно боролся, и знаменитый Кутногорский эдикт 1409 года, фактически изгнавший из Пражского университета всех нечехов, был его детищем. Можно соглашаться с радостью советских учебников насчет побед над "засильем немецких феодалов", можно робко указывать на то, что международный центр учености превратился тем самым в заведение регионального значения, но факт остается фактом.
Но был и еще один момент. В свое время Парижский университет, когда ему адресовали запрос относительно учения Гуса, увидел в последнем очередной акт борьбы между двумя большими схоластическими партиями — номиналистов (они преобладали в Париже) и реалистов (Джон Уиклиф, идейный вдохновитель Гуса, был из их числа). То есть весь конфликт они увидели в особенностях богословского понимания универсалий, общих понятий, которые то ли существуют только в человеческом интеллекте, то ли, на манер платоновских идей, реально присущи всем вещам. А вот во второй половине XIX века об универсалиях уже никто не вспоминал, зато в Гусе видели носителя специальной славянской духовности, которая в силу политических причин должна была казаться антикатолической. Вспомнили проповедь Кирилла и Мефодия; вспомнили переговоры гуситов с Константинопольским патриархатом; вспомнили, что Иерониму Пражскому на суде вменяли сочувственное общение с православными жителями Литвы. Этого было достаточно, чтобы некоторые из чехов демонстративно обратились к православию, имея в виду, что они возвращаются к исконной апостольской вере, вере Мефодия и Гуса. В России времен Александра II, где идея помощи славянским братьям превратилась в популярный геополитический лозунг, это вызвало крайне сочувственный отклик, что очень заметно по тому, как дореволюционные ученые писали о Гусе,— хотя гусовы протесты против социальной несправедливости, растленности духовенства, прейскурантов на таинства и народных суеверий, собственно, и Победоносцеву вряд ли пришлись бы по сердцу.
Осененная тенью Яна Гуса тяга некоторых националистически настроенных чехов к православию давала о себе знать еще долго — достаточно сказать, что и теперешняя Православная церковь Чешских земель и Словакии, и чешская национальная Гуситская церковь, обе восходят к национальным противокатолическим экспериментам 1920-х годов. После Второй мировой к этим экспериментам коммунистические власти относились без одобрения, но самого Гуса по-прежнему предъявляли в качестве народного героя, теперь уже борца с феодально-католической реакцией и вдохновителя бунтарских народных масс.
Во время Второго Ватиканского собора (еще один Вселенский собор в судьбе нашего героя) чешский кардинал Беран, почувствовав революционное настроение момента, предложил пересмотреть дело Гуса. Расчет был благородный и в то же время лукавый: не только исправить несправедливость, но и насолить коммунистам, присвоившим себе Гуса и сделавшим из него неизменный укор для верующих-католиков. Как бы то ни было, в 1960-е вопрос убрали под сукно. Только ближе к концу столетия тема возможной реабилитации (или даже канонизации) Гуса возникла вновь. Свою роль тут сыграли личные просьбы Вацлава Гавела, но интересно, что с аналогичными просьбами к Иоанну Павлу II обращались и его собственные соотечественники. Покойный папа, однако, после многолетней дискуссии рассудил, что здесь есть юридическая ловушка: признать Гуса полностью невиновным в ереси было бы, несмотря ни на какие моральные обертона, с его точки зрения неправомерно. Так что в итоге понтифик, тщательно подбирая слова, сказал только о глубоком сожалении насчет жестокой казни реформатора и последовавших раздоров, охвативших чешскую землю.
И все-таки сообщества верующих меняются, хотя и не всегда именно так, как хотелось бы реформаторам. Гуситской церкви по количественным показателям ныне очень и очень далеко до миллиардной паствы Рима. Девяносто лет назад, когда молодая Чехословацкая республика на высшем уровне справляла 510-летие смерти Гуса (500-летие по очевидным причинам так отметить не могли), папа Пий XI прекратил с республикой дипломатические отношения. А вот теперь — о, теперь все совсем не так, и некоторые ватиканисты делятся слухами о чуть ли не сенсационных заявлениях, которыми нынешний папа, может быть, еще почтит сожженного ересиарха.