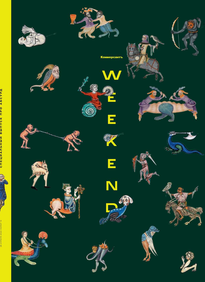75 лет назад, в сентябре 1946 года, в постановлении ЦК была раскритикована вторая серия «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна. При жизни Сталина фильм так и не вышел на экраны, что превратило его в настоящий миф — фильм, предъявивший Сталину его подлинное лицо и ставший последним в карьере Эйзенштейна. Сам Эйзенштейн, вероятно, удивился бы такой славе: «Иван Грозный» задумывался им не как критика, а как апология сталинской власти. Татьяна Шишкова рассказывает, что собирался показать Сергей Эйзенштейн в своем последнем фильме и почему это не удалось
9 августа 1946 года Сталин дважды выступил с речами на заседании Оргбюро ЦК. Событие не было рядовым — к этому времени Сталин на Оргбюро практически не ходил. Еще более необычным было содержание речей. Первая касалась состояния ленинградских журналов и творчества Ахматовой и Зощенко — тщательно законспектированная Ждановым, она вскоре превратилась в знаменитые постановление и доклад. Второе выступление было посвящено новым советским фильмам — Сталин разругал «Большую жизнь» Леонида Лукова, «Адмирала Нахимова» Всеволода Пудовкина и вторую часть «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна. Последнему досталось за то, что он не понял прогрессивной роли опричнины и изобразил опричников как «каких-то дегенератов», а Ивана Грозного — «человека с волей и характером» — превратил в «какого-то безвольного Гамлета». Критика Сталина почти дословно была перенесена в постановление о кинофильме «Большая жизнь», выпущенное 4 сентября. Запрет фильма принято датировать этим числом, что не совсем верно: к тому времени фильм был запрещен уже полгода.
Постановление о том, что вторая серия «Ивана Грозного» не выдерживает критики ввиду своей антиисторичности и антихудожественности, а потому следует воспретить ее выпуск на экран, было готово 5 марта 1946 года, но Эйзенштейн об этом не знал. 2 февраля, закончив монтаж второй части, он отправился на прием в честь лауреатов Сталинской премии, откуда был увезен в Кремлевскую больницу с обширным инфарктом. 6 марта, узнав о том, что Сталин остался «Иваном Грозным» недоволен и фильм запретили, режиссер Григорий Александров написал Сталину письмо. Соглашаясь с критикой фильма и отмечая, что руководство «Мосфильма» рекомендовало Эйзенштейну его переделать, Александров писал, что судьба фильма так волнует Эйзенштейна, что в его состоянии известие о запрете станет «причиной сильного волнения, которое для него в данный момент смерти подобно». Зная Сталина как человека «внимательного к людям и их несчастьям, отзывчивого и душевного», Александров просил его не принимать окончательного решения о фильме до выздоровления автора. Просьба была исполнена, что, впрочем, не избавило Эйзенштейна от волнений. 14 мая, еще находясь в Кремлевской больнице, он тоже написал Сталину письмо. Обеспокоенный тем, что фильм больше трех месяцев находится в Кремле, а никакой реакции до сих пор не было, он очень просил Сталина найти «кусочек свободного времени» и посмотреть его работу. Учитывая, как Эйзенштейна торопили с фильмом, затянувшееся молчание не могло не вызывать тревоги. Молчание было прервано 9 августа на заседании Оргбюро, но облегчения это не принесло.
Из трех фильмов, разруганных Сталиным на Оргбюро, один — «Адмирал Нахимов» Всеволода Пудовкина — был переделан, выпущен к концу года и отмечен Сталинской премией, второй — «Большая жизнь» Леонида Лукова — придуман заново и превращен в «Донецких шахтеров» (1950), и только «Иван Грозный» так и не получил новой жизни. В феврале 1948 года у Эйзенштейна случился новый сердечный приступ, и он умер. «Иван Грозный» стал его последним фильмом — это заставило многих смотреть на него как на завещание режиссера и превратило в настоящий миф.
Миф
Михаил Ромм
«Во второй серии Эйзенштейн в годы наитягчайшего расцвета культа личности Сталина позволил себе замахнуться на этот самый культ. Вторая серия "Ивана Грозного" — это картина о трагедии тирании. В ней нет грубых исторических параллелей, но они ощущаются во всем строе картины, в подтексте почти каждого эпизода»
Режиссер Михаил Ромм в воспоминаниях описывал, как смотрели фильм в 1946 году во время обсуждения его на худсовете: «Выразительно выпуклая, доведенная до чувственного предела атмосфера убийств, казней, разгула, тревоги, жестокости, подозрительности, лукавства, измен, предательств приводила в смятение первых зрителей картины. <…> Но никто не решился прямо сказать, что в Иване Грозном остро чувствуется намек на Сталина, в Малюте Скуратове — намек на Берию, в опричниках — намек на его приспешников. Да и многое другое почувствовали мы и не решились сказать. Но в дерзости Эйзенштейна, в блеске его глаз, в его вызывающей скептической улыбке мы чувствовали, что он действует сознательно, что он решился идти напропалую. Это было страшно».
Что «Иван Грозный» предъявлял в исторической проекции темную сторону сталинской власти, давно стало общим местом. Исследователи сходятся в том, что, изобразив в первой части фильма Грозного успешным государственным деятелем, во второй Эйзенштейн разрушил мир светлых аллюзий и вместо исторической легитимации предъявил трагедию власти. Вторая часть стала ловушкой для Сталина, узнавшего себя в историческом облачении, для зрителей и для цензоров, поскольку любая критика фильма требовала проговорить то, чего никто проговаривать не решался. От Эйзенштейна ждали исторических параллелей, но он сделал их чтение опасным — и для себя самого, и для окружающих. Именно об этом писал в воспоминаниях Михаил Ромм, но сами они — продукт исторического наслоения. Описывая опыт первых зрителей, Ромм в действительности рассказывал о том, как смотрели на фильм тогда, когда он наконец вышел в прокат.
На экраны вторая часть «Ивана Грозного» была выпущена в 1958 году и произвела на зрителей большое впечатление. Ромм не скрывал, что именно тогда он понял подлинный смысл картины, и его интерпретация действительно пропитана духом оттепели. Идея разоблачения Сталина, демонстрации страшной скрытой стороны сталинизма рождалась не из фильма: за два года до его выхода Хрущев прочитал доклад о культе личности и его последствиях, предъявив советскому обществу изнанку сталинской эпохи и заставив его переосмыслить предыдущие 20 лет истории страны. Запрещенная серия «Ивана Грозного» пришлась тут как нельзя кстати. Она смотрелась не только как иллюстрация к докладу, но и в каком-то смысле как оправдание искусства: Эйзенштейн разоблачал Сталина за десять лет до Хрущева. Потребность в подобном разоблачении была настолько сильной, что антисталинской интерпретации не помешала даже биография Эйзенштейна. Из всех героев «ждановщины» Эйзенштейн был, пожалуй, самым парадоксальным: и Ахматова, и Зощенко, и Шостакович каждый по-своему держали в отношениях с властью дистанцию — демонстративно отгораживались, прятались за иронию, но Эйзенштейн на протяжении всей своей жизни выступал ее последовательным пропагандистом. Все его фильмы — от «Стачки» и «Броненосца "Потемкина"» до «Бежина луга» и «Александра Невского» — так или иначе отталкивались от государственного заказа. Тот факт, что какие-то из них властью не принимались, объяснялся не тем, что критик власти побеждал в Эйзенштейне пропагандиста, а тем, что кино как таковое интересовало его больше политики, что на языке Сталина называлось формализмом. Формализм Сталин увидел и во второй серии «Ивана Грозного», хотя сложно найти другой фильм, в работе над которым Эйзенштейн проявил бы такую политическую сознательность.
Заказ
Николай Черкасов, исполнитель роли Грозного
«Фильм об Иване Грозном должен был показать, как в долгой, тяжелой борьбе с внешним и внутренним врагом создавалось и крепло мощное русское государство. Нам надо было раскрыть суть исторической миссии Ивана Грозного, его смелые реформы, показать его победоносный поход на Казань, полную глубокого государственного предвидения борьбу с ливонскими рыцарями за возврат исконных земель, за свободные торговые пути с Западом, за новые рубежи государства»
Идея снимать фильм про Ивана Грозного исходила от Сталина и была предложена Эйзенштейну в январе 1941 года. По воспоминаниям Всеволода Вишневского, Эйзенштейн собирался снимать фильм о деле Бейлиса, но Сталин передал через Жданова, что «темы, подрывающие самодержавие, сейчас не нужны». Вместо этого режиссеру предложили подумать над образом Ивана Грозного. Предложение отражало масштабный проект по реабилитации первого русского царя, на который были брошены лучшие силы: в марте было объявлено, что Алексей Толстой работает над пьесой, в апреле — что Эйзенштейн изучает материалы для съемок фильма, в мае — что Большой театр готовится поставить оперу про Ивана Грозного по либретто Осипа Брика. Параллельно была развернута кампания в прессе: одна за другой появлялись статьи о том, как либеральные историки, поддавшись влиянию иностранцев, неправильно трактовали период правления Грозного, который в действительности был искуснейшим дипломатом, прекрасным полководцем и всенародно любимым царем. Особое место в новой трактовке занимала Ливонская война, отныне описывавшаяся как возвращение России ее исконных земель. Она представала проекцией присоединения Прибалтики, раздела Польши и пакта Молотова—Риббентропа, а само правление Ивана Грозного служило для легитимации внешней и внутренней политики СССР 1930-х годов. На фоне этих выступлений подход Эйзенштейна к образу Ивана Грозного ничем не выделялся.
30 апреля 1941 года, сообщая о намерении снимать фильм, Эйзенштейн выступил с критикой в адрес историков, видевших в правлении Ивана Грозного исключительно темную сторону, и обвинил в засилье такого взгляда «пригретых Москвой чужеземных агентов», искажавших подлинную суть политики России и создавших миф о бессмысленной жестокости царя. Ивана Грозного он представлял мудрым и прозорливым политиком, опередившим свое время, бояр — потенциальными предателями, готовыми открыть врагу границы, опричников — подлинной опорой царя. Свою трактовку образа Ивана Грозного Эйзенштейн публично изложил на страницах одной из центральных газет, и она не вызвала вопросов у советского руководства.
Более того, после начала войны Эйзенштейн снова проявил политическую сознательность и сообщил председателю комитета по делам кинематографии, что занимается обработкой сценарного материала применительно к условиям военного времени. Внезапная война с Германией потребовала переноса акцентов, и Эйзенштейн предлагал ослабить антипольскую линию и заострить антинемецкую, ввести мотивы англофильства Грозного, показать героическую оборону городов. На доведение сценария до окончательного вида и согласование правок ушло еще два года. В сентябре 1943 года готовый сценарий был одобрен лично Сталиным, и вдохновленный Эйзенштейн опубликовал его сначала в осеннем номере «Нового мира», а затем — отдельным изданием. У Эйзенштейна и правда были основания для гордости: ему удалось превратить историю Ивана Грозного в настоящий учебник по истории СССР.
Замысел
«Человек делает труд всей своей жизни. Историко-художественную диссертацию в виде фильма. Он не торопится, явно поставив последнюю и очень большую для себя ставку на работу эту»
Михаил Названов, исполнитель роли Курбского
«Иван Грозный» задумывался Эйзенштейном как тотальная аллегория — все события и персонажи XVI века проецировались в нем на советскую историю. Фильм одновременно предлагал и правильное прочтение царствования Ивана Грозного, и правильное прочтение истории СССР. Венчание молодого Ивана на царство воплощало революцию и рождение нового государства: заявления иностранных послов о том, что Европа не признает нового царя, отражали шаткость международного положения молодой советской страны, а слова «сильным будет — признает» обозначали политическое кредо Сталина. Взятие Казани было проекцией Гражданской войны — утверждением суверенитета и отстаиванием территориальной целостности. Для наглядности этот эпизод сопровождался конфликтом между Грозным и Курбским, отражавшим знаменитый конфликт между Сталиным и Троцким при обороне Царицына. Курбский играл в фильме Троцкого — всегда второго, а потому полного зависти князя, в итоге предающего царя. Опричники были новыми советскими людьми — готовые отречься от отцов ради новой власти, они воплощали приоритет преданности над происхождением. Болезнь Грозного символически замещала смерть Ленина и последующую конкуренцию за власть, новый Грозный-Сталин принимал власть не в результате дворцовых интриг, а непосредственно из рук народа, снимая вопрос о том, что советский строй был навязан силой и не пользовался поддержкой. Первая серия завершалась убийством жены Грозного, в котором без труда прочитывались намеки на смерть жены Сталина. Последующее действие было посвящено раскрытию боярского заговора, затеянного с целью устранения Грозного и возведения на престол другого царя. Ключевым антагонистом царя после бегства Курбского-Троцкого выступал другой его ближайший друг — митрополит Филипп, в образе которого угадывались черты Николая Бухарина: он корил Грозного за слишком жестокие меры и призывал вернуться к старым порядкам. Необходимость раскрытия заговора, а следовательно и необходимость массовых казней, объяснялась Грозным опасениями не за свою судьбу, а за судьбу государства: «За себя не страшно — страшно за дело великое, молодое, начатое». Только расправа с внутренними врагами могла обеспечить России способность противостоять внешним врагам — Польше и Ливонскому ордену, подобно тому как репрессии 30-х годов призваны были подготовить советскую страну к противостоянию с фашизмом, избавив от изменников, предателей и шпионов. То, что под Польшей подразумевалась гитлеровская Германия, становилось понятно, когда Сигизмунд заявлял, что русские годятся лишь в батраки.
В подготовленном Эйзенштейном сценарии было две серии: в первой Грозный брал Казань, его предавал Курбский, умирала жена Грозного, а сам он удалялся в Александровскую слободу; во второй раскрывался боярский заговор, Грозного предавали митрополит Филипп и два поколения опричников (Басманов-старший и Басманов-младший), но в финале Грозный одерживал победу в боях с Ливонским орденом, выходил к Балтийскому морю и весь мир признавал в бывшем московском варваре законного царя. Композиция не казалась идеальной уже на этапе сценария: рецензировавший его Виктор Шкловский отмечал, что «средняя часть» слишком «интрижна» и вообще — слишком много убийств, но для Эйзенштейна интриги и убийства были принципиальны — в проекции на советскую историю они призваны были доказать необходимость репрессий 30-х годов.
Апология опричнины как инструмента противостояния боярам, стремившимся установить собственную власть, занимала важное место в реабилитации первого русского царя. Существует точка зрения, что сам интерес советского руководства к фигуре Ивана Грозного был в значительной степени вызван сравнениями Сталина с Грозным, ставшими расхожими на Западе во время Большого террора. Реабилитация Ивана Грозного была попыткой обезоружить западных критиков, и Эйзенштейн включился в этот диалог со всем энтузиазмом. В сценарии он последовательно отвечал на все наиболее распространенные на Западе инвективы в адрес Сталина и СССР: и на то, что советский режим насильно навязан народу, и на то, что Сталин предал дело революции и потому изгнал Троцкого, и на то, что процессы над партийными деятелями и старыми революционерами были фальсифицированы, а массовые репрессии были следствием паранойи Сталина, и на то, что он сам убил свою жену. Не отрицая, а утверждая сравнение Сталина с Грозным, Эйзенштейн превращал критику советской власти в источник ее легитимации. Аналогичные попытки предпринимались и другими (параллель между Курбским и Троцким появлялась, например, в пьесе Алексея Толстого), но только Эйзенштейну удалось спроектировать полномасштабное наложение советской истории на эпоху Ивана Грозного, одновременно развенчав критику Сталина и утвердив Грозного как основоположника русской государственности. Из двух серий сценария должно было выйти три серии фильма, и средняя часть, раскритикованная Шкловским, играла здесь важную роль: именно в ней раскрывалась внутренняя угроза, ответом на которую были массовые расправы, и именно в ней, в ответ на публичные обвинения в жестокости со стороны митрополита Филиппа, Грозный произносил слова: «Отныне буду таким, каким меня нарицаете. Грозным буду», символически отвечая критикам Сталина. Расправа над внутренними врагами была ядром всего фильма — она была необходима для сохранения того, что было достигнуто Грозным в первой серии, и для противостояния внешним врагам, которое ждало его впереди.
Политические аллюзии, которые впоследствии будут прочитаны как развенчание культа личности, были старательно прописаны самим Эйзенштейном, но смысл их был не в критике Сталина, а в его апологии. Именно так сценарий прочитал и сам Сталин, вернувший его с хвалебным отзывом: «Сценарий получился неплохой. Т. Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный как прогрессивная сила своего времени и опричнина как его целесообразный инструмент вышли не плохо. Следовало бы поскорее пустить в дело сценарий». Если бы фильм вышел тогда же, Эйзенштейна, очевидно, ждал бы успех, но за то время, что фильм снимался, многое изменилось.
Контекст
«Я не знаю, не могу точнее объяснить, но как русскому человеку мне тяжело смотреть такую картину. Я не могу ее принять, потому что мне становится стыдно за свое прошлое, за прошлое нашей России, стыдно за этого великого государя — Грозного, который был объединителем и первым прогрессивным царем нашей России»
Иван Пырьев
К тому моменту, как была закончена первая часть, необходимость оправдывать репрессии 30-х годов и заключение пакта Молотова—Риббентропа давно остались в прошлом. Война изменила и имидж советского государства, и имидж его руководителя, и перед советским искусством встали другие задачи. Для первой серии, законченной к концу 1944 года, это не оказалось проблемой: новый контекст лишь подсветил ее апологетический пафос.
Начало 1945-го, когда фильм вышел на экраны, был периодом триумфа Советского Союза, шаг за шагом освобождавшего Европу от фашизма. Советская пресса вовсю писала о явлении миру новой величественной страны, ничем не напоминавшей дикие орды, которыми пугала Европу немецкая пропаганда. Фильм Эйзенштейна идеально вписывался в эту риторику: новый образ Ивана Грозного оказывался отражением нового образа СССР. В восторженной рецензии на первую серию Всеволод Вишневский заявлял, что прежде на Грозного «злобно клеветали, называя его "кровавым тираном", государственные изменники вроде Андрея Курбского и те иностранцы, которые видели в историческом становлении России лишь "завоевания", а в русских — лишь "варваров", которых не следовало "пускать в Европу"». Теперь клевета была рассеяна, фильм Эйзенштейна показывал «подлинную историческую Россию — широкую, с монументальной архитектурой, с высоким развитием музыкальной культуры, связанную глубочайшими историческими нитями с Византийской империей». Такой же величественной и культурной, опровергнув всю прежнюю клевету, являлась миру и советская страна. Опричнина в рецензии Вишневского превращалась в «надежные командные кадры армии», составленные из «новых людей». Эта армия — «подлинная, хорошо вооруженная, с лучшей в Европе артиллерией» — оказалась способна «разгромить все волжское ханство, разгромить Казань и Астрахань, побудить государства Кавказа войти в сношения с Москвой, заставить Европу резко переменить оценку России» и бросить вызов немцам, «с неслыханной жестокостью истребивших славян на Лабе». Из всех описанных побед и достижений в первой серии фильма фигурировала лишь Казань, но Вишневский красочно достраивал образ, опираясь на победы Красной армии и превращая Россию Ивана Грозного в идеальную репрезентацию Советского Союза. Уже в апреле 1945 года фильм показали в Швеции, затем в Чехословакии и Франции — реакция в Европе тоже была восторженной. В СССР первую часть наградили Сталинской премией, и это вселило в Эйзенштейна надежду, что и вторая часть будет встречена хорошо.
Расчет не оправдался. Вторая серия была закончена в феврале 1946 года, и к этому моменту политическая обстановка снова изменилась. Заслуги Красной армии стали забываться, а советское руководство всерьез было обеспокоено начавшейся на Западе антисоветской кампанией. Наибольшую тревогу вызывали публикации в английской прессе, обвинявшие советские оккупационные войска в Европе в грабежах, изнасилованиях и других преступлениях в отношении мирного населения. Описания зверств, чинимых советскими военными, кочевали из газеты в газету, распространялись по радио, но главное — отражали реальный ужас, который наводили на местное население вышедшие из-под контроля советские войска. Красная армия больше не была объектом восхищения: чем дальше, тем чаще западная пресса снова сравнивала ее с захватившими Европу варварами.
В этом контексте вторая серия «Ивана Грозного» с ее разгулом жестокости оказывалась подтверждением той картины, которую рисовала европейскому населению антисоветская пропаганда. Пир опричников и призывы Басманова «жги, жарь терема» теперь олицетворяли не очистительную силу Большого террора, а бесчинства советских войск. Вместо самоочищения и высокой готовности расстаться с прошлым ради будущего фильм предъявлял миру страшных и жестоких людей, не ведающих жалости, вместо «надежных кадров армии» — «каких-то дегенератов». Фильм, который задумывался как ответ на антисоветские выступления, теперь лишь укреплял их.
История
«Тогда "Сердца четырех" — лицо Красной армии. "Старый наездник" — лицо того, что в войне оказалось тылом. Какое лицо показывают эти фильмы. Фильмы читаются как отображение страны»
Сергей Эйзенштейн
Как получилось, что режиссер, на этапе подготовки сценария демонстрировавший такую политическую сознательность, обнаружил такую политическую недальновидность? Расхожий ответ на этот вопрос состоит в том, что в процессе съемок Эйзенштейн отошел от сценария, художник победил в нем пропагандиста, искусство само обнажило все, что должно было обнажить. Другой ответ прозаичнее: в этот раз, в отличие от начала войны, у Эйзенштейна не было возможности подстроиться к новым реалиям. Информация о том, что поведение советских войск в Европе компрометирует советскую страну, была засекречена, и о резком ухудшении имиджа Красной армии Эйзенштейн в начале февраля 1946 года, когда заканчивал монтаж, ничего не знал. В 1943 году, в разгар работы над сценарием, он зафиксировал в дневнике: «Сейчас, после Сталинграда, Харькова, Ростова — лицо Красной армии показано и известно миру. И мир делает выводы об ее облике и через нее о советской власти — через героику военных ее деяний. Рядом с этим можно любое и забавное из частной ее жизни. <…> И сейчас сколько угодно можно показывать смешных паразитов <…> — что угодно. Не по ним ведется сейчас счет в международном масштабе!» Эйзенштейн полагал, что реальные успехи Красной армии снижают требования к ее экранным репрезентациям, но к тому моменту, как вторая часть была готова, эти требования оказались как никогда высоки.
Вопреки распространенному мнению Сталин не воспринял вторую серию «Ивана Грозного» на свой счет — в феврале 1947 года вместе с Молотовым и Ждановым он встречался с Эйзенштейном и исполнителем роли Грозного Николаем Черкасовым, чтобы обсудить перспективы переделки фильма. Из их разговора становится понятно, что в 1947 году советской власти нужен был не тот Иван Грозный, что в 1941-м. Холодная война и борьба с низкопоклонством сместили приоритеты, и Сталина в Грозном теперь гораздо больше интересовало то, что, в отличие от Петра I, он «не впускал иностранное влияние в Россию». В сталинскую эпоху у исторического кино была сложная функция — на историческом материале оно должно было говорить о современности, транслировать миру советский взгляд на актуальные события. Сам по себе этот прием не был советским изобретением: история часто использовалась для разговора о настоящем там, где прямое высказывание было невозможно в силу политических причин (так, например, Александр Корда использовал в «Леди Гамильтон» адмирала Нельсона и войну с Наполеоном, чтобы донести до американцев необходимость поддержать Британию в ее противостоянии Гитлеру). Но в сталинскую эпоху этот прием был доведен до предела, история выступала здесь не как пространство аналогий, а как официальный язык для разговора о политике, и чем быстрее сменялись обстоятельства, тем сложнее кино было за ними успеть. Вторая серия «Ивана Грозного» опоздала в 1946 году, но предложенная в ней историческая проекция обрела новую актуальность спустя десять лет: фильм, который Эйзенштейн задумывал как рассказ о Большом терроре, оправдывающий Сталина, оказался его идеальным обличением.