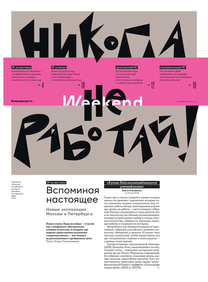В Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка Михаила Врубеля (1856–1910), сделанная кураторами Ириной Шумановой и Аркадием Ипполитовым без повода вроде какой-нибудь круглой даты — из чистой любви к художнику. Это самая большая выставка Врубеля со времен юбилейной, устроенной в 1956 году, к 100-летию со дня рождения, в Москве, Ленинграде и Киеве. Несмотря на то что здесь впервые демонстрируют некоторые произведения, в частности — рисунки, сделанные в психиатрических лечебницах, и впервые собраны вместе целые циклы, например «Жемчужина», ничего нового к всероссийскому культу Врубеля и врубелевским мифам эта выставка, в сущности, не прибавляет.
Архитектура первого и главного зала выставки, сделанная Сергеем Чобаном под явным влиянием Даниэля Либескинда и его концептуального лабиринта на «Мечтах о свободе. Романтизме в России и Германии», построена на мотиве кристалла: стены кристаллических в плане компартиментов прогрызены кристаллическими дверями и окнами. Кристалл — краеугольный камень врубелевского мифа, где художник предстает отцом русского и даже мирового модернизма. Последнее — на совести Сергея Судейкина, утверждавшего, будто на дягилевской выставке «Два века русской живописи и скульптуры», показанной на Осеннем салоне в Париже в 1906 году, был замечен сам Пабло Пикассо — испанец якобы часами простаивал в Гран-Пале у картин Врубеля, все никак не мог насмотреться на кристаллические формы, а потом взял да и изобрел кубизм. «За много лет до кубистов Врубель обращался с формой не менее самовластно, чем они»,— судя по пассажу из «Силуэтов русских художников» Сергея Маковского, к началу 1920-х «кубистическое» первенство Врубеля стало уже общим местом. Впрочем, и Николай Тарабукин, возглавлявший в конце 1920-х группу по изучению творчества Врубеля в легендарной ГАХН, Государственной академии художественный наук, тоже доказывал, что Врубель предвосхитил весь мировой авангард. Хотя бы потому, что Врубелю принадлежит первый в истории искусства коллаж: папироска в руках художника на пастельно-угольном «Автопортрете», датирующемся 1904–1906 годами и сделанном, видимо, в клинике доктора Усольцева, представляет собой полоску бумаги, наклеенную поверх рисунка.
Основания для того, чтобы провозгласить Врубеля родоначальником модернизма в отечественном искусстве, более существенны: он действительно представляется едва ли не первым русским художником, в чьем творчестве вопрос художественной формы сделался центральным. Самодовлеющая форма, торжествуя над литературностью сюжета, разрастается угловатыми гроздьями кристаллов в зарослях сирени, демонических и серафических крылах, оборках лебединых платьев, лепестках хризантем и роз. С вопросами формы связан и самый большой скандал в художнической биографии Врубеля, сделавший его всероссийской знаменитостью и принесший ему сомнительный титул главаря декадентской партии: дискуссии по поводу панно «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович», написанных к Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году, развели по разные стороны эстетических баррикад даже тех, кто должен был бы сражаться плечом к плечу,— совет Императорской академии художеств и государя императора, Максима Горького и Гарина-Михайловского. Поднятый на щит эстетизма Сергеем Дягилевым и мирискусниками и обожествленный посмертно журналом «Аполлон», Врубель, преподававший мало и урывками, сделался вдруг духовным учителем всех, к кому только можно было прилепить этикетку «формалист». Начиная с Филиппа Малявина, кого тот же академический совет чуть было не оставил без звания художника за «бессодержательную» выпускную картину «Смех» (год спустя она получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже, а потом успешно прогастролировала на Венецианской биеннале), и заканчивая Александром Родченко, вспоминавшим, что во время учебы в Казанской художественной школе левачество его выражалось в работе «под Врубеля».
Репутация провозвестника модернизма сыграла с Врубелем злую шутку: он был полностью вычеркнут из истории русского искусства на добрую четверть века — в годы развитого сталинизма. Юбилейная выставка 1956 года в Третьяковской галерее, Русском музее и Киевском музее русского искусства, вернувшая Врубеля отечественной публике, стала одним из символов оттепели. Конечно, советскому искусствоведению приходилось проявлять чудеса интеллектуальной эквилибристики, чтобы доказать глубоко реалистическую сущность врубелевского искусства и очистить его от опасных ярлыков «символизма», «декадентства» и «модерна». Но ни художественное сообщество, ни широкий зритель не вдавались в эти идеологические подробности — с 1956-го культ поверженного и возвращенного Врубеля крепнет год от года.
Врубель и Иванов
Творческая биография Врубеля, родившегося и выросшего в провинции, связана с тремя, одной новой и двумя древними, столицами: Петербург, Киев, Москва. В Третьяковской галерее не стали раскладывать жизнь художника в строгом хронологическом порядке по периодам — петербургскому, киевскому и московскому, что в сегодняшних реалиях и не было бы возможно: рассказать о киевских годах без вещей, хранящихся в музеях Киева и Одессы, не выйдет, а музеи Украины не участвуют в проекте по причинам, не зависящим от Третьяковки. Вместе с обозначенными лишь пунктирно киевскими храмовыми ансамблями, а это не только и не столько фрески в Кирилловской церкви, сколько эскизы к неосуществленным росписям во Владимирском соборе, приобретшие в истории русского искусства особый, сакральный статус, из врубелевской мифологии выпадает один из магистральных сюжетов: Врубель как реинкарнация Александра Иванова.
Краткий петербургский период — период ученичества в академии — стал для Врубеля временем радикального выбора пути: между Павлом Чистяковым и Ильей Репиным, между академией как живой традицией и новаторством критического реализма, между чистым искусством и искусством с тенденцией, между немодной школой и модным передвижничеством. Поворотным пунктом оказался «Крестный ход в Курской губернии», показавшийся Врубелю произведением бесконечно лживым, подменяющим правду искусства правдой газетного листка, и, пропустив мимо ушей все воззвания Владимира Стасова, он решительно вступил в аполитичную партию Чистякова. Во врубелевских кристаллах принято видеть высшее развитие чистяковской системы рисунка, предполагавшей, что форма должна быть извлечена из хаоса материи посредством последовательной «обрубовки», огранки, отсечения плоскостей, с которыми она соприкасается. В мастерской Чистякова Врубелю открылась истина, уже известная другим романтикам в широком смысле слова, от назарейцев до прерафаэлитов,— истина о подлинном величии Рафаэля, доступная лишь тем, кто понял разницу между академией и академизмом. Так, как понял ее Александр Иванов — едва ли не единственный художник русской школы, которого любил Врубель: в рисунках к «Обручению Иосифа с Марией», сделанных в 1881-м, на втором академическом году обучения, все (об этом позднее свидетельствовали и Михаил Нестеров, и Константин Коровин) ясно увидели линию, идущую от «Афинской школы» к «Библейским эскизам».
С подачи Чистякова Врубель и отправился в Киев — работать под началом историка искусства Адриана Прахова над восстановлением ансамбля Кирилловской церкви: ему поручалось дополнить новыми росписями утраченные фрески и написать образа для иконостаса. С Киевом — с работой в Святой Софии и Кирилловском монастыре, с командировкой в Венецию и с византийской мозаикой, увиденной на Торчелло и в Равенне,— связывают врубелевский «византизм», обогативший кубокристаллическую форму мозаичным пониманием цвета и единства и дробности плоскости. С Киевом — с эскизами неосуществленных росписей для Владимирского собора, со всеми версиями «Надгробного плача» и «Воскресения», отвергнутыми Праховым и строительным комитетом,— связана и рифма «Врубель — Иванов», основанная как на формальном сходстве, так и на мифе о великой неудаче, великом нереализованном замысле. Весь московский период, период больших декоративных ансамблей для купеческих особняков, доказывает точность этой рифмы — от противного.
Врубель и «Демоны»
Выставка начинается с оглушительного, кульминационного аккорда — с «демонической» трилогии. Поздоровавшись с «Царевной-Лебедь» при входе, зритель сразу же попадает в гостиную, где сошлись все три «Демона», из Третьяковской галереи и Русского музея: «Демон сидящий» (1890), «Демон летящий» (1899) и «Демон поверженный» (1902). На взгляд сегодняшнего популярного искусствоведения с примесью популярного богословия, «Демоны» служат точкой, в которой сходятся мистические параллели жизни и творчества мастера, дерзновенно взбунтовавшегося, заглянувшего в бездну, заплатившего умопомрачением и пришедшего к свету накануне слепоты — в предсмертных «Шестикрылом серафиме» (1904) и «Видении пророка Иезекииля» (1906). Редкий служитель массового культа Врубеля упустит случай подчеркнуть, что родился он в тот год, когда впервые полностью опубликовали лермонтовского «Демона» (в 1856-м в Карлсруэ — это был типичный тамиздат), и что Лермонтов служил в том же самом Тенгинском полку, что и отец художника. Впрочем, первые голоса эпохи, начиная с Блока и заканчивая Брюсовым, щедро подливали масла в огонь мистических интерпретаций и эзотерического параллелизма: рок, бездна, искусство как «чудовищный и блистательный ад»... А также двоемирие, двойничество, дионисийское и аполлоническое...
По счастью, в «Демоне поверженном» не разглядели кощунственной цитаты из «Мертвого Христа» Гольбейна Младшего и «Идиота» Достоевского — Врубелю и без того хватало неприятностей с критикой и цензурой. Но в 1885 году весь Киев узнал в образе «Богоматери с младенцем» из иконостаса Кирилловской церкви Эмилию Прахову, жену киевского заказчика и покровителя Врубеля. Чуть позднее вся столичная богема узнала о страстной влюбленности художника, о том, как он ходил делать предложение замужней женщине и матери семейства — непосредственно к ее супругу, и о прочих пикантных подробностях несчастной любви. А еще позднее в многочисленных образах, сопровождавших трилогию, особенно в майоликовой «Голове Демона», начали узнавать не только автопортретные черты, но и бездонные глаза и чувственные губы роковой красавицы Праховой. Следующей Прекрасной даме Врубеля, Надежде Забеле, кроме глаз и губ, досталась по наследству и эта дьявольско-божественная амбивалентность: крылья «Царевны-Лебедь» роднят ее, деву-оборотня, и с «Демонами», и с «Шестикрылым серафимом». Словом, в «демонической» эпопее успешно сошлись две модные тенденции времени: захлестнувшее Россию ницшеанство и еще не успевший ее покорить фрейдизм.
В насмешках над иллюстрациями Врубеля к юбилейному двухтомнику «Сочинений» М.Ю. Лермонтова (1891) — неровными, как все у него, местами декоративно-салонными, местами опережающими свое время на десятилетия, как «Скачущий всадник», готовый оставить позади и футуристов, и петров-водкинского «Красного коня»,— критика отточила перья, пригодившиеся ей в крестовом походе против «Принцессы Грезы» и «Микулы Селяниновича». Однако очевидная связь «демонической» трилогии с этим юбилейным лермонтовским изданием затрагивает тему, болезненную для всех утвердителей врубелевского модернизма: он так никогда — ни в «Сиренях», ни в «Жемчужинах» — не освободится от литературы, хоть и решил на рубеже веков навсегда покончить с иллюстрацией. Но даже «К ночи» (1900), панно не то боннаровской, не то ловис-коринтовской дионисийской декоративности, не избежало литературных трактовок и сопоставлений со столь любимым Врубелем Чеховым и его «Степью». Впрочем, литературность Врубеля — особого, поэтического свойства: движение от «Демонов» к «Серафиму» с «Пророком» описывается как восхождение от Лермонтова к Пушкину, и рифма «Врубель — Блок» не менее устойчива, чем рифма «Врубель — Иванов». Одной из последних работ художника стал незаконченный «Портрет Брюсова» (1906). «В его поэзии масса мыслей и картин. Мне он нравится больше всех поэтов последнего времени»,— писал Врубель жене из клиники доктора Усольцева. Спустя несколько недель Врубель окончательно ослепнет, спустя год Брюсов издаст «Огненного ангела». Учитывая магию последних вещей и мифологию творческих завещаний, тут всеми силами хочется держаться за блоковскую рифму — и перья страуса склоненные, и очи синие бездонные.
Врубель и Европа
«Хорошо воспитанный, немного иностранного образца», «с лицом не русского типа» — бог весть почему родившийся в Омске, годы детства и отрочества проведший в Астрахани, Саратове и Одессе, русский по родному языку Врубель производил на всех такое впечатление, может быть, радикальная инаковость его живописи заставляла видеть и в нем самом нечто инородное. По свидетельству Маковского, эстетический космополитизм Врубеля связывали с его нерусским, то есть польским, происхождением, и проблема крови занимала современников столь сильно, что первому биографу художника Степану Яремичу, искусствоведу, критику, живописцу и давнему, еще киевскому приятелю своего героя, пришлось внести ясность в этот животрепещущий вопрос: поляком он был по отцу, тогда как матери, наполовину датчанке, обязан «четвертой частью русской крови». Русский по языку, Врубель тем не менее был едва ли не первым полиглотом среди всех русских художников — сказывалось и домашнее воспитание, а по отцу, матери и мачехе он принадлежал к дворянской интеллигенции, и, конечно, знаменитая Ришельевская гимназия. Судейкин, навещавший Врубеля в одной петербургской психиатрической клинике за четыре года до смерти, вспоминал, как он легко переходил с древнегреческого на французский и английский, с латыни — на немецкий и итальянский. С этим удивительным полиглотством связана и первая поездка Врубеля в Европу — еще до академии, вместе с одним богатым семейством, где он репетиторствовал по древним и новым языкам.
Как ни странно, «европеец» и «византист» Врубель, в новой русской школе ценивший одного Иванова, выбирает из европейского искусства (не из старых мастеров — тут его венецианские предпочтения, Карпаччо, Джованни Беллини и Тинторетто, весьма оригинальны, а из новых, из современников) то, ради чего не нужно было ни ездить в Европу, ни знать в совершенстве европейские языки. С первым своим европейским кумиром, Мариано Фортуни-и-Марсалем, Врубель встретился — конечно, не лично, а фигурально — в мастерской Чистякова: к тому времени культ Фортуни, гения цвета, умершего в Риме 36 лет от роду в 1874-м, через полгода после того, как в ателье Надара открылась первая выставка импрессионистов, уже проник из Европы в Россию, его вещи имелись в русских коллекциях, по рукам ходили альбомы, и в любви к нему признавались и гражданственные передвижники, и эстеты из абрамцевского кружка. По легенде, Фортуни тоже был учеником Чистякова — брал уроки в бытность последнего пенсионером в Риме,— так что, выбрав Фортуни в качестве учителя по части цвета и акварели, Врубель остался в рамках той же школы — школы космополитической академии. Да и многие другие из европейских учителей и собеседников Врубеля, будь то Арнольд Бёклин, чья «Война» так точно процитирована в панно «Полет Фауста и Мефистофеля» для готического кабинета в доме Алексея Морозова, или Одилон Редон, чьи жемчужные раковины также полны чудесных видений, вовсе не требовали отъезда из России — в смысле такого радикального пересечения пространственных и временных границ, чтобы оказаться на переднем краю модернизма — в объятиях импрессионизма, которые знали о цвете что-то, чего не знал Фортуни.
Как ни странно, «поляк» Врубель никогда не соотносился в русской критике с польским модерном — в компаративистском ряду «Врубель и...» («Врубель и Рерих», «Врубель и Пикассо») никогда не возникало темы «Врубель и Выспяньский». Но, глядя на эскиз Станислава Выспяньского к «Полонии» для Львовского (тогда, разумеется, Лембергского) кафедрального собора, сличая его с врубелевскими «Философией» и триптихом «Фауст» из того же морозовского особняка, мы не можем не заметить, что краковское чувство формы Врубелю не так уж и чуждо.
Врубель и Серов
«1910 год — это смерть Комиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Комиссаржевской умерла лирическая нота на сцене; с Врубелем — громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий — вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность — мудрая человечность»,— сказано в предисловии к «Возмездию», и никто лучше Александра Блока, говорившего речь над могилой художника в день похорон, не может объяснить, в каком символическом ряду воспринимался уход Врубеля. Большую посмертную ретроспективу Врубеля готовил его самый близкий друг Валентин Серов, но скоропостижно скончался в 1911-м, не успев завершить мемориального дела. Ощущение, будто со смертью Врубеля и Серова закончился большой этап в истории русского искусства, висело в воздухе — памяти обоих художников посвятит своих «Играющих мальчиков» Кузьма Петров-Водкин, называя эту картину 1911 года «похоронным маршем». Правда, работа над холстом была начата за несколько месяцев до внезапной кончины Серова, так что посвящение сделано постфактум. «Мальчики», напоминая отроков Фердинанда Ходлера, современника и единомышленника покойных, одновременно свидетельствовали о знакомстве с «Танцем» Анри Матисса, самым радикально-новаторским произведением живописи в тогдашней России, явно виденным Петровым-Водкиным в щукинском собрании. То есть они одновременно оглядывались назад, на великую классическую традицию в ее финальной стадии, и смотрели вперед — в лицо русского авангарда, с уст которого вот-вот слетят слова про «бездарную мазню какого-нибудь Врубеля». «Мальчики», даром что один — блондин, а другой — брюнет, кажутся братьями-близнецами, и только камень в руке одного из них служит ключом к сюжету: это Каин и Авель.
Они познакомились на вступительных экзаменах в Академию художеств, Врубель, к тому времени уже закончивший обучение на юридическом факультете Петербургского университета, был почти на 10 лет старше Серова, что нисколько не помешало их дружбе и частому сотрудничеству в самых разных областях, будь то театр, церковная живопись или иллюстрация. Современники отмечали, что эта пара представляла собой забавный контраст: обходительный и говорливый Врубель, нелюдимый и молчаливый Серов. Зависти и ревности между ними, кажется, не возникало — врубелевские вспышки гнева, вызванные серовским критическими замечаниями, о чем вспоминали мемуаристы, относились к их многолетней внутренней дискуссии об искусстве, так что Каин и Авель — не самая удачная метафора. Их вообще, наверное, не стоило бы противопоставлять друг другу — вместе портретист Серов и декоратор Врубель могли бы составить идеального художника эпохи: если считать преувеличенную театральность врубелевских портретов недостатком (Алексею Федорову-Давыдову казалось, что в портрете Саввы Мамонтова Врубель изображает своего главного покровителя и защитника этаким былинным богатырем), то она с лихвой компенсируется аналитически трезвым и порой насмешливым серовским взглядом на модель, но зато такие малоудачные серовские вылазки на территорию модерна, как «Похищение Европы», совершенно теряются на бесконечно прекрасных цветочных фонах врубелевских панно. Впрочем, вряд ли можно вылепить одного литератора из Чехова и Блока.
Врубель и Римский-Корсаков
Савва Мамонтов действительно сыграл в жизни Врубеля важнейшую роль — и речь, естественно, не только о скандале с «Принцессой Грезой» и «Микулой Селяниновичем» (их продюсером выступил меценат-провокатор). Мамонтов — это Абрамцево и майолика, в которой с наибольшей силой выразилось декоративное дарование Врубеля. Мамонтов — это опера, через которую в жизнь Врубеля вошла и Надежда Забела, и самая большая его любовь в русской музыке, Николай Римский-Корсаков.
С мамонтовской Русской частной оперой связан и приход Врубеля в театр в качестве художника — ему довелось оформить лишь три оперы Римского-Корсакова, причем среди них была и нелюбимая «Царская невеста», и обожаемая «Сказка о царе Салтане». «Царевна-Лебедь» не имела отношения к этой работе, вернее, она была начата еще до того, как Врубель получил заказ на декорации: первый замысел возник в тот момент, когда Забела, одна из любимиц композитора, начала разучивать свою партию. За блеском и мишурой костюмов Забелы, над которыми Врубель трудился по собственному почину и безо всяких заказов, скрывается один парадокс: спектакли столь театрально-декоративного по своей сути Врубеля реализуются вовсе не на сцене, а в театрализованных портретах и майоликовых сюитах. Майоликовые «фигуринки» исполнены по мотивам «Садко» и «Снегурочки» (в 1901 году их выставляли в Венском сецессионе — фигурку «Леля» купил с выставки Густав Климт), но оформлением самих этих постановок Врубель не занимался.
Наверное, Врубель и Дягилев просто трагически разминулись во времени, какое-то десятилетие — и Врубель мог бы стать украшением «Русских сезонов». Но театральный проект Врубеля — «произведение искусства будущего» не только в рассуждении дягилевской антрепризы. Известно, что Врубель, как и Блок, был убежденным вагнерианцем. Известно, что музыкальные вкусы Врубеля (а музыкальность его проявилась в раннем детстве, как и способности к рисованию, и, может быть, лишь по случайности не вышла за пределы любительства) были такими же западническими, что и художественные: он оставался совершенно равнодушен к Чайковскому, ценил «итальянца» Глинку, но выше всех ставил Римского-Корсакова — возможно, как русского Вагнера. Во всяком случае во врубелевском синтетическом искусстве, где живопись и скульптура стремятся слиться с архитектурой, недостает только музыки — драмы в нем хватает.
Врубель и безумие
В апреле 1902 года Врубель был впервые госпитализирован в лечебницу с симптомами острого психического расстройства — следующие восемь лет жизни он по большей части проведет в различных психиатрических клиниках, полностью ослепнув за четыре года до смерти. Два последних зала (они же два последних этажа) выставки посвящены этому времени, и тут чобановская архитектура оказывается особенно неудачной. Раздел «Безумие как инакомыслие», где чередуются белые и черные комнаты, причем в белых выставлены портреты докторов, санитаров, сиделок и виды из окна палаты, сделанные крепкой академической рукой, твердо держащей графитный карандаш, а в черных — экспрессионистские, идущие поперек всех академических норм рисунки цветными карандашами на разные фантастические и нефантастические сюжеты, провоцируют зрителя на прямолинейную трактовку: вот, дескать, моменты просветления, а вот, дескать, приступы болезни. Вообще-то Врубелю везло с психиатрами — среди наблюдавших его в клинике Усольцева был, например, студент-психиатр Павел Карпов, который впоследствии станет первым в России специалистом по творчеству душевнобольных — соберет коллекцию, выпустит книгу, возглавит комиссию по изучению творчества душевнобольных на физико-психологическом отделении ГАХН и станет верным сподвижником Тарабукина в плане изучения врубелевского наследия. Интересующихся темой отошлем к сочинениям доктора Карпова, а также заметим, что графики откровенно патологической — не по форме, а по порнографическому содержанию — в Третьяковке не выставили, пощадив чувства публики. Тогда как в экспрессионистских рисунках цветными карандашами ощущается явная страсть к греческой архаике, настигшая того же Серова, но значительно позже, в 1910-м, и было бы неплохо узнать, какие книги и альбомы читал в это время запертый в клинике Врубель.
За этим печальным разделом следует еще более трагический финал под названием «Возвращение», где собраны работы 1904–1906 годов (врачам тогда удалось добиться некоторых успехов). Серия автопортретов и портретов Забелы-Врубель, где совершенно раскрывается тема двойничества, начатая еще в пору первого «Демона». Эскизы и этюды к «Жемчужине», впервые собранные вместе целиком, где видно, как в мерцаниях жемчужной раковины он вдруг находит искомый баланс между реальностью и фантастикой. Запечатленные обыкновенным графитным карандашом фрагменты спальни — плед, брошенный на спинку венского стула, смятый халат, железная кровать с измученной подушкой и скомканным одеялом, стакан, подсвечник, салфетка в руке: рисунки эти, вошедшие в историю искусства как цикл «Бессонница», демонстрируют мастерство, не то что не угасающее, а выходящее на какой-то новый уровень, где серый грифельный штрих обретает свето- и даже цветоносность. Возможно, в этих программно фрагментарных и незаконченных набросках Врубель, страдавший манией незавершенности («у Миши таланта бездна, но воли — решимости докончить картины — на алтын»,— говорил Прахов), находит свой идеальный жанр. Воспетые Николаем Пуниным на страницах «Аполлона» в 1913 году, рисунки «Бессонницы» вот уже более века ценятся эстетами всех мастей как высшее достижение художника. Однако последняя врубелевская картина маслом — «Шестикрылый серафим» — выглядит и самым законченным, и самым совершенным произведением этой неровной кисти.
Конечно, последние работы Врубеля, выполненные при таких обстоятельствах, обладают особой суггестивностью и не дают взглянуть на них трезвым взглядом. Иначе мы бы заметили, что дистанция между акварельным натюрмортом с фрагментами ткани, сделанным в 1884-м в мастерской Чистякова, и карандашными рисунками с фрагментами одеял и пледов, сделанными в 1904-м не то в клинике Усольцева, не то по выходе из нее, не так уж велика, и имя ей — вовсе не пропасть между нормальностью и гениальным помешательством, а зрелость. Но миф о безумии настойчиво переписывает творческую биографию Врубеля, провоцируя жизнеописателей на спорные сравнения с Винсентом Ван Гогом и исключая гораздо более уместные — и по манере, и диагнозу — сравнения с Эдвардом Мунком. На выставке в Третьяковке вдруг возникает шальная мысль, что при всей реальности и серьезности болезни, она оказалась для Врубеля способом сбежать в края абсолютной, не скованной ни школой, ни эстетическими предрассудками времени творческой свободы. Когда «Иоанн Креститель» с рисунка-иконки 1905 года — стройная длинноногая фигура с изящными локтями и коленками, узорчатая ассирийская борода, узорчатая верблюжья шкура, узорчатые театральные крылья — стоит по щиколотки в водах Иордана, а под водой расцветают дивные васильки и ромашки. Дорогой Врубеля пойдут и другие гении, умело симулирующие дезертирство в область безумия, начиная с Сергея Калмыкова и заканчивая Анатолием Зверевым.
Врубель и модерн
Врубель, предвосхитивший модернизм, совершенно затмил собой Врубеля, предвосхитившего русский модерн: само слово «модерн» кажется слишком тесным для художника, одержимого лермонтовскими демонами и пушкинскими пророками, в пресловутой врубелевской декоративности надлежит видеть нечто большее, чем дань цветочному стилю эпохи — ведь «Сирени» и «Примаверы» расцветают грядущим «духовным в искусстве», даром что в распадающейся на точки и линии «Лилии», «декоративным мотиве», готовом стать преступным орнаментом, нельзя не почувствовать почерк ар-нуво. Кстати, о почерке: Коровин вспоминал, как Врубелю, нередко впадавшему в форменную нищету, пришлось как-то раз, чтобы расплатиться с прачкой, промыслить халтурой, любезно устроенной ему дворником,— создатель кирилловских фресок и «Демона сидящего» отправился к соседям-именинникам писать поздравительный плакат и по желанию заказчика красиво вывел на коленкоре «Николаю Васильевичу слава! Боже, Лёвочку храни! Шурочке привет!», выручив за это произведение целых 10 рублей. «Но как написал Врубель, какой особенный был шрифт — свой и какой! И тут Михаил Александрович проявил свой необыкновенный дар графической черты и формы»,— восторгался мемуарист.
Купеческая Москва, щедро заказывавшая, но, если верить Коровину, не слишком щедро платившая за все триптихи, панно, плафоны, майоликовые камины, витражи и скульптурные группы оперных герцогов и монахинь, вьющихся вокруг колонн, ушла в небытие — сегодня врубелевские работы, изъятые из национализированных особняков и переданные в музеи (что, разумеется, спасло их от вполне вероятной гибели), смотрятся беззащитными цитатами, вырванными из контекста. Однако уже знакомый нам Николай Тарабукин, начальник гахновской группы по изучению врубелевского творчества, считал, что по этим вещам не стоит «судить о монументализме и декоративном таланте художника, требующем для своего проявления больших плоскостей в общественных здания, на улицах и площадях», ведь «Врубелю всегда мечталось об искусстве большом, социально значимом, входящем в повседневную жизнь, связанном с окружающим, искусстве активного социального воздействия и преображения жизни». При всей анекдотичности этой характеристики товарища Врубеля, как будто бы данной ему для вступления в ИЗОРАМ, Изомастерские рабочей молодежи, мы все же не можем не признать, что у эпохи товарища Тарабукина установились гораздо более живые и близкие отношения с художником — не то историческая дистанция, не то вся история репрессий, реабилитации и последующей канонизации мешают нам посмотреть на Врубеля с такой же непосредственностью.
«Михаил Врубель». Третьяковская галерея на Крымском Валу, до 8 марта