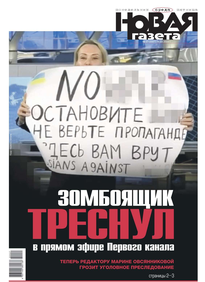«Такие отбросы, как я, будут уничтожать все». Эта строчка из письма-«манифеста» пермского стрелка, которое он опубликовал минут за 30–40 до трагедии, в полной мере говорит о самоощущении теперь уже состоявшегося убийцы.
Он ненавидит весь мир. Всех, кто его окружает. Он хочет принести в этот мир как можно больше боли и увести с собой в небытие как можно больше людей.
Казанский стрелок расстреливал людей 11 мая. Он кричал о себе, что он — Бог.
Один чувствует себя отбросом, другой — Богом. Что с ними происходило? Можно ли было предотвратить случившееся?
Об этом говорим со специалистами.
Психолог Александр ШАРАПОВ. Автор психолого-педагогической программы «Профилактика экстремистских тенденций молодежи.
— Если судить по письму пермского стрелка, которое он оставил в соцсетях перед тем, как отправился расстреливать людей, то можно заметить, что он очень педантичен. Четко следует плану, помнит, когда, какого числа все началось, какой номер у справки, которую он получил. То есть во всем, что касается хронологической последовательности, виден сухой, скрупулезный подход. Эмоции пробиваются только тогда, когда он начинает размышлять об окружении, мире, смысле жизни. Тут прослеживаются суицидальные наклонности. Он говорит, что всю жизнь думал о смерти (что может свидетельствовать о некрофильских наклонностях), и обесценивает смерть: да там ничего нет, чего вы так боитесь смерти. Пренебрежительно называет расстрел аттракционом. Сообщает, что ему было бы все равно, кого и где убивать, что это был вопрос времени. И вдруг появляются фразы, которые явно из этого перечня выбиваются, цитирую: «В первоначальном плане в качестве места для нападения я выбрал свою уже бывшую школу, но в конце марта я решил изменить место. Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения».
— То есть возникает вопрос, что за ад для него был в этой школе?
— Для меня удивительна скорее последняя часть предложения: «у детишек там не особо много путей отхода для спасения». Это удивительно потому, что он же только что сказал, что ему все равно, кого убивать, — и вдруг начинает переживать за маленьких детишек в школе. С чего бы вдруг пришла такая мысль? Может показаться, что я пытаюсь вызвать к нему симпатию — нет, ни в коем случае, никто не может оправдывать убийств. Нет оправданий! Просто как специалист я обращаю внимание на любые нестыковки, если брать за основу психологическую подоплеку. Он о маленьких детях говорит с точки зрения их возможного спасения — вероятно, они у него ассоциируются с некой душевной чистотой, незащищенностью. Вот я приду такой весь разрушитель, а у них нет путей для спасения.
Здесь может быть задействован механизм проекции, и этот человек неким образом рассуждает о себе-младшекласснике. Если добавить к этому еще одно предложение из того же письма: «с начальной школы понравилось причинять людям боль», то можно предположить, что у него был какой-то ранний тяжелый и болезненный опыт именно в начальной школе. Конечно, многих обижали в детстве, и, слава богу, только единицы становятся убийцами. Но в данном случае это возможно сыграло какую-то свою роль — нужно разбираться.
— В каких случаях детские травмы могут сыграть такую роль? Есть люди, склонные к мести, но, согласитесь, в данном случае это месть безадресная, он просто не успел обрести врагов в вузе, в который только поступил.
— Это похоже на символическую месть глухому, отчужденному миру. Это нерациональный поступок. Что бы ни декларировал террорист — это всегда доведенные до крайности негативные эмоции, подкрепленные псевдорациональным обоснованием.
Формирование террористического сознания имеет свою логику и свою структуру, оно подобно воронке — имеет циклический характер. Возникает на фоне негативных эмоций: внутреннее раздражение, фрустрация, недовольство. И только потом усваивается так называемая сверхценная идея, призванная разрешить внутреннее напряжение. Начинается взаимная подпитка: негативные эмоции усиливают разрушительную идею, а идея в свою очередь подпитывает негатив. Все это идет по спирали, убыстряется и усиливается.
Этот процесс может идти годами. Пермский стрелок пишет, что начал готовиться с середины 10-го класса, но это только то, что он стал осознанно ощущать. Мы не знаем, что там было прежде, — так просто человек не в состоянии взять и отнять жизнь у незнакомых людей, называя это действие аттракционом. Я повторяю это, потому что вижу в этом сравнении жуткую смесь злорадства, цинизма и полной опустошенности.
Но дело здесь не только в обидах. Я изучал эту тему несколько лет. Есть ряд ключевых признаков террористов. Прежде всего, им присуща эмоциональная глухота. Они не понимают, что такое боль, у них хромает чувство сострадания, а если непонятно, что больно, то и можно делать больно.
— И в письме пермского стрелка говорится, что он не понимает, что чувствуют люди, потому что они открыто проявляют эмоции, только когда им делаешь больно.
— Такое бывает при психологической травме: чувства словно замораживаются. И при некоторых психических заболеваниях, когда человек начисто лишен эмпатии. Только когда он видит страдание, он может почувствовать эмоцию. Он, по сути, так и говорит, что идет убивать других, чтобы почувствовать себя живым.
Еще признак — контрастное дихотомическое мышление: либо хорошо — либо плохо, либо вы со мной — либо против. Мир черно-белый, других цветов нет. Разубедить уже созревшего террориста не получится: он этого не допустит, потому что тогда для него весь мир перевернется.
В межличностных отношениях такие люди либо отчаянно соперничают, либо избегают общения, закрываются. У них либо экстремально заниженная самооценка — «я никто», либо сильно завышенная — «я Бог».
— Может ли в данном случае идти речь о психически здоровых людях?
— Я читал текст сотрудника ФБР в отставке, правда, он говорил о маньяках, но думаю, что это можно сказать и применительно к стрелкам. Что с точки зрения нормальных людей, конечно, они нездоровы. Но классическая психиатрия их часто признает вменяемыми, потому что они очень четко понимают, что делают, отлично осознают все причинно-следственные связи. Они вынашивают планы, все анализируют, прогнозируют. Но это, конечно, искаженное сознание.
— Расскажите о вашей программе профилактики экстремистских тенденций, как вы с ней работаете?
— Я работаю со студентами. Прежде всего, я даю им возможность выговориться. Редко, но иногда бывает их слушать тяжело и даже неприятно. Много гнева, ненависти, но пусть лучше говорят, чем потом делают. Это — коррекция внутреннего напряжения: тебя слышат, слушают. Когда эмоции сошли — его выслушали, — можно порассуждать здраво. Учимся командной работе, эмпатии, доверию друг к другу. Есть отдельный блок конфликтологии.
Когда решение о теракте уже вызрело — сделать будет ничего нельзя. Будущий стрелок будет вежливым, внешне спокойным, он не подаст вам никаких сигналов о том, что в нем происходит разрушительное нарастание сил. А вот когда созревало — он, скорее всего, подавал знаки.
Есть исследование о поведении самоубийц, но поскольку у всех стрелков прослеживаются явные суицидальные намерения, можно результаты обобщить. По статистике только 3% суицидентов не подают окружающим никаких знаков. Остальные 97% знаки подают, и при внимательном отношении их можно услышать. Это могут быть фразы: «наверное, я здесь лишний», «мир несправедлив», могут быть какие-то резкие взрывы ярости или смех «висельника». Нужно реагировать, откликаться, предложить обратиться за помощью к профильным специалистам.
Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований, руководитель психологической службы факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Кирилл ХЛОМОВ. Соавтор исследования «Массовые убийства в образовательных учреждениях: механизмы, причины, профилактика».
— Кирилл, давайте для начала скажем, что ваше исследование было опубликовано в 2018 году в Национальном психологическом журнале, думаю, важно, чтобы его прочитали все, кого волнует тема. Там вы анализируете 55 публикаций и исследований, собранных по всему миру. Что вам как специалисту показывает Пермская трагедия?
— Прежде всего, то, что у нас, как и прежде, система выстроена больше под контроль, чем под оказание помощи. Пермский случай очень наглядно показывает, что на все системы контроля люди будут находить все новые и новые пути обхода. Без системы психолого-педагогического сопровождения контроль ничего не дает. В некоторых странах есть положительный опыт борьбы с шутингом, например, в Германии и Финляндии. Там после нескольких подобных эпизодов повторных случаев не было в течение 15 лет. Этого удалось добиться за счет нормализации климата в образовательных учреждениях, работы социальных педагогов и психологов, которые помогают разобраться в проблемах каждого конкретного ученика.
Составить четкий психологический портрет потенциального «стрелка» крайне сложно, и различные тесты и чек-листы поведенческих реакций не дают возможности его сформировать. При этом есть сигнальные признаки, на которые все же стоит обращать внимание: склонность к депрессии, суицидальные мысли, уход в мир компьютерных игр, проблемы в отношениях с учителями и учениками.
Мы говорили в исследовании, что стрелками становятся люди, у которых слабые социальные связи. То, как пермский стрелок описывает своих одноклассников и однокурсников, указывает как раз на этот момент.
Формализм в системе образования и здравоохранения рождает много проблем. 15 минут на прием пациента в поликлиниках — результат оптимизации, чтобы врач-специалист вынужден был принять как можно больше пациентов. Под таким давлением трудно оценить и успешно справиться с такими сложными случаями, как пермский пациент, причинивший в итоге столько горя людям. Судя по тому, как он сам описывает две встречи с психиатром, там не было настоящей клинической беседы, не было исследования, при котором его замыслы могли бы быть обнаружены. Очевидно, что даже заподозрив что-то неладное, специалист в итоге все же отправила его к психологу за штампом. Я могу объяснить это только давлением на потоке — быстро пропускать каждого, чтобы успеть как можно больше принять пациентов.
— Психиатр не только заподозрила, но и написала себе, чтобы не забыть впечатления. Он приводит ее слова на втором приеме: «Я посмотрела записи, и в них написано, что я не доверяю вашим ответам». После этого она предложила 18-летнему парню, пришедшему к ней за справкой для оружия, пройти платного психолога. По сути, переложила ответственность, вместо того чтобы забить тревогу
— Психиатр явно почувствовала некоторое нездоровье. Последние исследования говорят о том, что часто ощущения врача более достоверны, чем бланковые тесты. Любой тест, включая полиграф, при должной тренировке можно научиться обходить. Чем больше мы повышаем контроль, тем больше будут улучшаться и усложняться способы его обхождения.
Я бы обратил внимание еще на два факта. В обществе сегодня есть стремление к индивидуализму, к изоляции. Старые системы вовлеченности друг в друга уже не работают, а новые не выстроены, нет общественного присмотра, реакции друг на друга. Я думаю, любые развороты в сторону большей взаимопомощи и гуманистического отношения другу к другу надо очень поддерживать. К счастью, такие тенденции тоже есть, как и попытки говорить, изживать практики принуждения, физического и эмоционального насилия. Это все нам сегодня остро необходимо…
Второе. У нас за короткий промежуток времени — с мая по сентябрь — произошли два случая так называемого шутинга людьми, которые только что вышли из-под опеки школ. Казанский стрелок учился в колледже, потом, правда, был отчислен, пермский — в университете. Может быть, есть смысл думать о психолого-педагогическом сопровождении не только школьников, но и тех молодых людей, кто недавно вышел из-под опеки школы.
Психолог, доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ, заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей ЕНИКОЛОПОВ.
— Условно можно сказать, что все это продолжение истории массового убийства в школе «Колумбайн», совершенного в США в 1999 году с применением стрелкового оружия. Стрелки — и казанский, и пермский — попали в зону так называемого социального заражения. В интернет-среде происходит некая героизация, и можно уже говорить, что возник культ такой подростковый.
Если учесть, что подростковый возраст увеличился во многих странах до 25 лет, — это большой пласт людей.
Что говорил мальчик из Казани? То же, что выкрикивал один из нападавших на «Колумбайн»: «Я Бог!» — это впрямую подражание. На опыте казанского стрелка, по сути, обучился парень из Перми: он же в письме гордился тем, что обманул всех — и психиатра, и психолога. То есть социальное заражение происходит не просто в чистом виде, что один к одному я повторяю ваши действия, а я учитываю ваши ошибки.
— Можете объяснить природу этого зла? Они идут убивать из-за чего?
— Многие называют причиной травлю, но, когда мы начинаем их исследовать, часто выясняется, что это только их восприятие. Можно при всех равных считать себя успешным, а можно — неудачником. Судя по рассказам бывших одноклассников стрелка из Казани, по отношению к нему не было буллинга. С ним хотели дружить, он многим нравился, но был одиноким.
Американцы проводили исследование, из которого был сделан вывод, что большей части таких стрелков были поставлены психиатрические диагнозы: у кого-то шизофрения, у другого — депрессия. Кому-то ставили ассоциативное личностное расстройство, но, думаю, что последнее — от бессилия специалистов. Полностью здоровых практически не было — по сути, это так же, как с Раскольниковым: болезненное состояние, и он убивает, а потом выходит из него и становится кротким, религиозным.
— Я где-то прочитала о том, что письмо студента Пермского университета, расстрелявшего людей, было очень грамотным…
— Известно, что подростковый возраст связан с метафизическими исканиями, и текст его письма все это выражает. Вспомните еще раз Раскольникова и произведение Камю «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде», где идут прямые отсылки к Достоевскому. Там же говорится, что я своей смертью приговариваю мир — он несовершенен и должен быть разрушен. Вот эта идея смерти мира, которой человек может способствовать, потому что мир — это мир в его голове. Ей вторит стрелок из Перми. Он говорит, что вокруг одни уроды, их можно уничтожать — и самого себя тоже. Он мог бы это сделать в школе, что вроде было бы логичнее. Но в том-то и дело, что суть для террористов не в месте — я все вокруг считаю дерьмом и все малозначимо: осуществлять ли месть в самом дерьмовом месте — вот что он, по сути, говорит.
Я не сторонник быстрого диагноза, но там, конечно же, есть психическое неблагополучие. Раньше в клиниках часто ставили диагноз «Синдром метафизической интоксикации». Метафизические искания — это нормально, но у кого-то это сказывается как интоксикация. А чтоб расстреливать людей, к уму и исканиям остается еще прибавить агрессию и мощную дегуманизацию окружающего. Вам может кто-то нравится, а кто-то нет, но вы видите в них людей, а террористы — не видят.
Отсутствие эмпатии характерно для психопатов, а у здоровых это может выключаться. Даже во время войны, как показывают нам исследования, в первом бою только 9% стреляли во врага, а другие осознанно или неосознанно целились куда угодно, только не в живого человека. Постепенно они становились солдатами, переставали видеть людей, а видели врагов, которые — «не люди». Включался момент привыкания, и происходила полная дегуманизация.
— Получается, наши стрелки жили как бы на войне и никак себя не выдавали годами? И второй вопрос: какой тип личности склонен копить обиды? Неважно, мнимые они или реальные, вынашивать план мести миру?
— Конечно, старались не выдавать — вокруг же «враги». Ответ на второй ваш вопрос связан с тем, насколько объективно мы воспринимаем мир. Когда мы чем-то эмоционально захвачены, происходят искажения, как у влюбленных: они же искажают образ объекта обожания. Людям объяснения обиженного и затравленного мстителя понятнее, но скажу еще раз: его обиды зачастую существенны только в его воображении. Это связано с бредом отношений, с паранойяльным типом личности, и этот элемент присутствовал у всех, кто устраивал шутинг. Обычный человек знает, что он идет куда-то, а большая часть людей на него внимания не обращает — и не должны, потому что люди так же, как и он, идут по своим делам. А для него это уже может стать обидой: на меня не обращают внимания!
И я полностью согласен в данном случае с американцами, которые проанализировав около 80 случаев, делают вывод о том, что нужно бросить большие силы на дестигматизацию служб психического и психологического здоровья. Чтобы молодые люди не боялись обращаться за помощью, и тогда бы можно было уменьшить риск массовой гибели людей. Металлодетекторы нужны, но поддержка специалистов спасет больше.
— Если мы говорим об аналогии с «Колумбайном», то важно вспомнить, что одного из малолетних убийц в этой школе мать все время водила к психиатру. Он был под наблюдением специалиста до того, как открыл стрельбу.
— Но запрос психиатру не был связан с готовящимся преступлением. Специалист не был ориентирован на группу такого риска. И проблема — каким инструментарием владеют психологи и психиатры, насколько они готовы к встрече с таким пациентом, могут ли вычленить из жалоб об одиночестве, неуспеваемости, буллинге агрессивную или аутоагрессивную компоненту?
Нужны исследовательские работы по инструментарию. Я знаю, что по агрессии и аутоагрессии инструментарий и у нас, и у американцев крайне бедный. Но надо двигаться в этом направлении. Ничего другого нет: полиция и Росгвардия предельно ограничены — все зависит от того, с какой скоростью они прибудут на место, и не более того. Это же не профилактика, не предупреждение — только реакция. Врачи лечат ковид, но одновременно идет работа над вакцинами. И здесь нужны «вакцины», а мы все время хлопаем по месту, где муха сидела.
У нас в школе один психолог на детей от 7 до 16 лет. Должно быть как минимум четыре психолога: три — для каждой группы возрастов учащихся и один — для учителей. Они же у нас психологически запущенные, тонут в своих проблемах, у многих из них выгорание. Они даже буллинга зачастую не видят. Их учили, как преподавать, а как понимать другого человека — не знают.